Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове
Лев Озеров
 Озеров Лев Адольфович (настоящая фамилия — Гольдберг; 10 (23) августа 1914, Киев — 18 марта 1996, Москва) — поэт и переводчик. Первоначально публиковался под собственным именем Лев Гольдберг, а также литературными псевдонимами Лев Берг и Л. Корнев. Заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1980), лауреат премии журнала «Арион» (1994).
Озеров Лев Адольфович (настоящая фамилия — Гольдберг; 10 (23) августа 1914, Киев — 18 марта 1996, Москва) — поэт и переводчик. Первоначально публиковался под собственным именем Лев Гольдберг, а также литературными псевдонимами Лев Берг и Л. Корнев. Заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1980), лауреат премии журнала «Арион» (1994).
В 1934 году переехал в Москву. Закончил МИФЛИ (1939) и его аспирантуру (1941), защитил кандидатскую диссертацию.
Участник Великой Отечественной войны, военный журналист. С 1943 г. до последних дней жизни преподавал в Литературном институте, профессор (с 1979 г.) кафедры художественного перевода, доктор филологических наук.
Первая публикация стихов в 1932 г., первая книга издана в 1940 г.
Выпустил более 20 прижизненных сборников. Опубликовал множество стихотворных переводов, главным образом с украинского (Т. Шевченко и др.), литовского (К. Борута, А. Венцлова, Э. Межелайтис и др.), идиш (С. Галкин и др.) и других языков народов СССР.
Автор ряда книг и статей о русской и украинской поэзии, в том числе о творчестве Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Б. Л. Пастернака, а также мемуарных очерков, в том числе об А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцком и др.
Статья Озерова «Стихотворения Анны Ахматовой», опубликованная 23 июня 1959 года в «Литературной газете», представляет собой первый отзыв о её поэзии после долгих лет молчания. Лев Озеров также много сделал для сохранения творческого наследия и для публикации поэтов своего поколения, погибших на войне или в годы сталинских репрессий, или просто рано умерших (в том числе, Ильи Сельвинского, Александра Кочеткова, Дмитрия Кедрина, Георгия Оболдуева).
Опубликовал переводы стихотворных произведений украинских (Т. Шевченко, П. Тычина, М. Рыльский и др.), литовских (К. Борута, Бутку Юзе, А. Венцлова, З. Геле, Йоварас, К. Корсакаса, Э. Межелайтис, В. Монтвила, В. Реймерис, Т. Тильвитиса и др.), еврейских (С. Галкин, Л. Квитко и др.) поэтов.
На литовский язык стихотворения Льва Озерова переводили Антанас Дрилинга, Эугениюс Матузявичюс, Эдуардас Межелайтис, Вацис Реймерис, Йонас Стрелкунас, Йонас Якштас.
Терпенье — мужская работа
«О Викторе Некрасове. Воспоминания (Человек, воин, писатель)». — К. : Український письменник, 1992, стр. 227—236
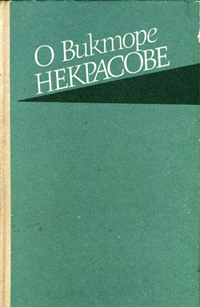
Не так просто установить время нашей первой встречи. Примерно: 1931—1932. Место первой встречи — большая комната одноэтажного дома Союза писателей Украины на углу Пушкинской и Ленина. Здесь собирались студенты, библиотекари, журналисты, люди разных профессий, пробовавшие писать — кто в стихах, кто в прозе, кто робея, кто самоуверенно. Руководил этими нечастыми собраниями писатель Дмитрий Эрихович Урин.
Он был нам известен как автор рассказов, повестей, пьес. Позднее обнаружилось, что он писал и стихи и прятал их в стол. (Помню строки: «Мне стихи никогда не приносили дохода, я когда-нибудь их к алкогольным грехам отнесу, но когда ты под утро выходишь на холод восхода, так и хочется выть на тишину и росу»).
Иногда бывал у нас Николай Николаевич Ушаков, который до этого вел студию стиха и погружал нас в таинства версификации. Невысокого роста, бледный, узколицый, с пристальным ироничным взглядом и красивыми кистями рук с удлиненными пальцами, Дмитрий Эрихович Урин был златоустом, для которого разбираемое произведение начинающего служило лишь отправной точкой для роскошного монолога, в котором характерное, лиричное чередовалось с насмешливым, подчас уничижительным. Это был мастер разговорного жанра, образец для подражания. Талант его был отмечен Бабелем, но этому таланту не дано было осуществиться — острый язык, рефлексия, болезни, ранняя смерть.
Посещал эту студию спортивного типа юноша с запоминающимся лицом и жестами. Студийцы заметили его. Потом узнали, что это Виктор Некрасов. Он учился в архитектурном институте. При знакомстве как-то мелькнуло имя Кричевского, художника и архитектора. Задержались на нем. На школах рисования. На художественной молодежи начала тридцатых годов.
Сперва общей толпой, а потом — уже на Владимирской — отдельными группами шли к Днепру. Читали друг другу. Забывали, где и когда живем. Все-таки юность. Возникало чувство общности. Говорили, перебивая друг друга,— многое накопилось у каждого на душе.
Человек убежденного бодрствования и веселого нрава, Виктор Некрасов легко знакомился, быстро сходился с людьми и так же легко расходился. Он не останавливался на выяснении причин того и другого. Так получалось, так сложилось. Он без предупреждения покидал вечернюю компанию. Всем или многим могло показаться, что он обиделся. Ничего подобного. Через несколько дней он так же неожиданно появлялся и мог с легкой душой продолжать прерванный разговор. Он казался мне несостоявшимся советским денди. Не дали развернуться. В нем было много артистичного, игрового, и ему нравились эти его качества. В них он спасался от жизненных тягот, от неразрешенности современного ему бытия.
Несколько раз мы встречались с Виктором Некрасовым на дому у Дмитрия Эриховича Урина на Мало-Васильковской, рядом с Кузнечной. Первый этаж. Старомодная квартира, прохладный кабинет Дмитрия Эриховича. Жена его Мифа умела радушно всех разместить и приготовить всех для общей беседы. Она поглощала внимание многих, в том числе и Некрасова. Впоследствии они подружились. Дмитрий Эрихович, автор книг рассказов и повестей, вышедших в киевских издательствах, естественно и по праву был в центре внимания. Он умел и любил рассказывать. Особенно оживленными были его рассказы в пору, когда он приезжал из Москвы, где жил его брат, тоже литератор, подписывавшийся Давурин, где он встречался с видными писателями. Его рассказы о Бабеле и Олеше, Паустовском и Славине, художественных выставках, концертах производили сильное впечатление. Сожалею, что они не записаны. Блестящий слог, поддержанный артистичным жестом, а главное — умение наблюдать и делать выводы. Среди посетителей нашей студии были П. Глазов, Я. Хелемский, С. Спирт, А. Рохлин, И. Локштанов, Б. Минчип, А. Бродский, А. Тростянецкий, Г. Скульский, Л. Серпилин, Б. Палейчук... Всех не помню. Некоторые заняли определенное место в литературе. Среди них Виктор Некрасов.
Шло время нашей юности. Время, казалось бы, традиционной беспечности, хотя не было никаких оснований для беспечности. Некрасов казался мне неунывающим. У этого, думал я, жизнь пойдет без драм. Вокруг спорта и театра. Не тут-то было. Начало 30-х годов. Жесточайший украинский голод. Маниакальная борьба с национализмом (пишущий эти строки был заклеймен как украинский буржуазный националист). Мы старались вести беседы на улице, в саду, в лесу, но не в закрытых помещениях, в которых нам мерещились подслушивающие аппараты.
Мы вышагивали с Виктором от университета до Владимирской горки, от нее до «Арсенала», от «Арсенала» до Подола. Наши беседы надо измерять не часами, а километрами. Я читал стихи — свои и чужие. Он характеризовал их кратко, односложно. Не спешил с окончательными суждениями. Умел слушать. Это качество было в нем воспитано матерью Зинаидой Николаевной, с которой он не расставался до ее последнего дня и которая была для него первым человеком, как, собственно, и должно быть.
Напомню, что речь идет о начале 30-х годов, близящихся к их середине. Свободные собрания людей по поводу дней рождения, именин, свадеб, без поводов, хождение в гости постепенно сходили на нет. Люди чуждались друг друга, переставали друг другу доверять, страх овладевал душами людей.
При встречах с Некрасовым я не замечал этого повального, грозящего стать стадным явления. Он по-прежнему был доброжелателен, весел, по все более ироничен, и эта ирония его все более и более горчила. Мы не касались так называемых общих вопросов, проблем существования, политики. Говорили, главным образом, о девушках и об искусстве. Но при расставании без особой связи с предыдущими высказываниями он говорил:
— Будем терпеливы. Надежда питается терпением, иначе оно истощается.
Не ручаюсь за точность слов и за их порядок, по при его весело-грустном выражении глаз и смешинке, трепетавшей в уголках губ, он высказывал именно эту мысль. Более отчетливо помню его слова — опять-таки о терпении. Он высказывал их не как выношенный афоризм, а как обычную бытовую фразу, он никогда не любил романтической патетики и высокого штиля. Напротив, высокий штиль всегда пытался снизить.
— Терпенье — мужская работа. Но именно в этом мужчин превосходят женщины...
— Слушай, Вика, ты стал говорить стихами: «Терпенье — мужская работа». Трехстопный амфибрахий...
— Что? Что?
— «По синим волнам океана...» Помнишь у Лермонтова? Тот же амфибрахий.
Люди жили общаясь. Люди переставали общаться.
Шли годы, и процесс разобщенности людей увеличивался. Это стало хронической болезнью и находилось в прямой связи с увеличивавшимися репрессиями. Редели гостевые столы в семьях Урина, Перлиных, Ушакова, Тычины, Гофштейна, Спиртов, Глазовых, Новофастовских, Рохлиных, всех семейств, где ранее происходили наши встречи и беседы. Киевский голод 1932-1933 годов придал всему этому трагедийное значение.
В написанной уже в позднюю пору и изданной в Париже «Маленькой печальной повести» есть у Виктора Некрасова строки: «Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет (это написано в 1984 г.— Л. О.), совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, пе знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион».
Это написал Виктор Некрасов. Он выразил и мои мысли, наши общие наблюдения и выводы, словно бы вспомнил наши беседы тех далеких лет. В редкой из наших встреч мы не касались этого больного вопроса. Поначалу в 20-е годы мы мечтали воспитать коллектив друзей, товарищей, сообщество. Вырастили же индивидуев (в отличие от индивидуальностей), владельцев духовных приусадебных участков и личных палисадников, частников, леваков, хапуг, приобретателей, толпу одиноких. Это «выдающееся достижение» сталинщины, ее победа — удар по нескольким поколениям. Некрасов это чувствовал. Это чувствовали все мы.
Если в скромной, трудолюбивой семье без каких бы то ни было причин изъят, репрессирован и не вернулся хотя бы один человек, жизнь этой семьи на несколько поколений покарежена. Она ущербна в силу совершенной несправедливости, в силу пережитой жестокости. Немота, недоверие, жажда мести, тоска по правде, скорбь сковали уста людей. Они чуждались друг друга, как никогда прежде не чуждались в таких грандиозных масштабах. Палец, предупреждающе приставленный к губам, был типичным жестом родителей по отношению к детям, старших друзей но отношению к младшим.
Виктор Некрасов заметил это явление и выразил в точных словах. Я вздрогнул, обнаружив в поздней его работе одну из главных тем наших разговоров. Мне нравилось, но Некрасов никогда не хотел прослыть ни умным, ни находчивым, ни веселым. Оп не заботился о репутации. Ум его проявлялся непроизвольно, к месту, без заготовленных цитат и ссылок на авторитеты, находчивость его находилась в сфере случайности и экспромта, веселость его рождалась тогда, когда для этого были видимые причины. Естественность человека зеркально отобразилась па ею сочинениях.
В эссе о французской актрисе Мадлен Рено писатель и философ Альбер Камю говорит: «Есть люди, которые умны как бы заранее, еще ничего не испытав в жизни. Это ум по стопке смирно». Некрасов был умен и готов к испытаниям жизни. Он не накликал их на себя. Просто в жизни его так случилось. Могло случиться и иначе. Но судьба распорядилась именно так.
В испытаниях проявились и его ум, и его находчивость, м его веселость. Он был ко всему готов. Но не был готов к жизни в таком мире, где царит разобщенность. Эту горечь он пронес до конца. Завершенная жизнь позволяет сделать именно такой вывод.
От характеристики мне надо поскорей перейти к событию.
Киев сразу же после войны, Киев в руинах. Отыскиваю уцелевших родственников и друзей. Со мной, при мне просьба Оренбурга записать все, что можно узнать о Бабьем Яро. У меня ни навыков такого рода, ни записей нет. По ходу дела учусь. Беда учит. Массированного удара сообщений о том, как все это было, сердце не выдерживает. Считаю — не могу сосчитать погибших в Бабьем Яре моих родственников, близких, друзей. Нахожу выход в стихе. Сама себя написала небольшая поэма «Бабий Яр»:
Я пришел к тебе. Бабий Яр.
Если возраст у горя есть,
Значит, я немыслимо стар,
На столетья считать — не счесть...
Все, связанное с Бабьим Яром, забирает меня все больше и больше. Я ездил туда один. Я ездил туда с Тычиной и художником Шовкуненко. Я проделал пешком путь, который проделали киевляне в той процессии, которая вела к гибели. Позднее Эренбург в письме попросит моего разрешения воспользоваться этими сведениями для романа «Девятый вал». В романе это можно прочитать.
Очерк о Бабьем Яре я сделал Эренбургу для готовившейся «Черной книги». Мой текст был отредактирован Василием Гроссманом. В пору редактирования мы несколько раз встречались с Василием Семеновичем. Его «Треблипский ад» был уже написан. В книге участвовали Платонов, Лидин, Сейфуллина и другие. Книга, как известно, была издана во всем мире. Советский Союз составлял исключение. Жданов долго держал рукопись и не решался дать ей добро. Сталин сразу же запретил. Несколько раз я ездил в Киев и понял, что ни в очерке, ни в книге, ни в серии книг не исчерпать горя, перенесенного народом с самого начала войны. Это неизбывно. Это на всю жизнь. Встречал сочувствующих, встречал равнодушных, встречал злобствующих из числа неопознанных полицаев. Они нашлись и среди знакомых, соседей, полудрузей.
Приехав (в который раз!) из Киева, переполненный устрашающими впечатлениями, я искал способа поделиться ими с близкими и друзьями. Рассказ, обкатываясь, обретал временную последовательность. Но совладать со своей впечатлительностью я не мог («если возраст у горя есть, значит, я немыслимо стар»). Моменты патетические сводились к минимуму — в них не было потребности. Чем суше и лапидарней я рассказывал, тем большее впечатление производил самый рассказ. Мои слушатели в один голос советовали мне записать все «подряд» и попытаться напечатать. Указывалось даже издание, которое могло бы дать несколько печатных колонок для этого рассказа. О славные советчики, боевые друзья каждого сочинителя, чьими благими намерениями выстлана дорога в ад...
Условился я с тогдашним редактором «Литературной газеты» Сергеем Сергеевичем Смирновым. Он меня принял, мягко сказав, что у него время ограничено. В таких случаях я говорю, что у меня времени еще меньше, его уже нет, и ухожу. Но Смирнов понимающе улыбнулся. Его бледное лицо осветилось. Рассказ все же я не сократил, и автор «Брестской крепости» выслушал меня внимательно, без должностных гримас и привычных редакторских жестов.
— Все это надо записать. И передать нам. Срок? Вчера... Ну, ладно, неделя.
Дома я сразу же лихорадочно стал записывать текст. Сидел долго заполночь и строчил, строчил. Поздно ночью звонок. Сергей Сергеевич Смирнов говорит:
— Хотел с вами посоветоваться. Все хорошо. Тема утверждена редколлегией. Но вот что возникает. Вы не очень обидитесь, если мы переадресуем этот материал и попросим написать о Бабьем Яре кого-либо из писателей Украины? Так будет лучше. Понимаете? Я не знаю: Бажан, Тычина, Рыльский?.. Без вас мы не хотели определять. Это будет удобней по некоторой причине, о которой мы с вами догадываемся. Вы меня поняли?
Причину он не назвал, но по интонации я давно уже все понял. И понимать нечего. Варварский, не принятый нигде во всем мире обычай, при котором человек некой национальности не должен писать о людях его же национальности. Дабы его, чего доброго, не обвинили в национализме.
Поняв, в чем дело, т. е. уразумев, что о тысячах погибших евреев не должен писать их единоплеменник, я невольно согласился с «Литературной газетой». Пусть напишет мой давний земляк, коренной киевлянин, но ни в коем случае не иудей, а украинец или русский. Так, мол, будет сподручней, объективней. Мы привыкли к разговорам н действиям в «таком стиле».
— Согласен. Но кто же? — спрашиваю.— Может быть, Виктор Платонович Некрасов?
— Спасибо. Давайте подумаем.
— Ну, полагаю, на этом моя роль завершается. Дело редакции. Некрасов... Отлично!
Я отошел в сторону. Редакция действовала.
Выбор пал именно на Виктора Некрасова.
Киев, русский, солдат, известен широким кругам, вол нолюбив, хорошая репутация, отменный слог. Сперва все же предлагали двум-трем украинским писателям. Beжливый отказ. Позвонили Некрасову. Он согласился.
Согласился, выхлопотав себе двухнедельный срок.
Статья была напечатана. В долгую пору преследования Некрасова и издевательств над ним ему попомнили и эту статью. Статья и выступление на митинге, посвящение Бабьему Яру.
Дальнейшие редкие встречи были случайны. Виктор Некрасов приезжал в Москву в связи с книгой «В окопах Сталинграда», имевшей огромный читательский успех. Молва вместе с текстом опережали и журнальный вариант, и отдельное издание. Пришла слава, несущая радость, ошеломление, зависть коллег, потерю части старых друзей обретение новых, неудобства, связанные с ожиданием редакциями новых рукописей, прихлебатели, собутыльники, непрошенные биографы и теоретики. Некрасов нежно говорил о Твардовском и о круге «Нового мира». Здесь обрел истинных друзей.
При встрече я получил книгу «В окопах Сталинград с надписью — издание «Советского писателя» — к пятидесятилетию Октября, 1967, т. н. «золотая серия». Я вручил Виктору новую книгу стихов, но не заметил по дальнейшим встречам, что он ее читал. К стихам, как мне кажется, он не проявлял интереса. Так, заставочки, виньеточки, прокладочки между прозой и публицистикой.
До меня доходили слухи на уровне достоверных сведений, что в Киеве жилось ему туго, неуютно, к нему относились с нараставшим недоброжелательством. Он искал душевного равновесия в подчас случайном собутыльничестве, когда «коллеги» именовали его то мэтром, то ведущим, то классиком. Иногда слезно-иронически он протягивал руку и говорил:
— Подайте советскому классику!
Он играл на сцене жизни. Этакий Барон из горьковской пьесы «На дне».
Равновесие не удавалось. Некрасов был удручен не только своей судьбой. Он зорко наблюдал за тем, что творилось вокруг.
Успех книги «В окопах Сталинграда» сделал имя Виктора Некрасова известным за рубежом. Его приглашали в разные страны. Но разрешения на выезд он не получал. Рассказывают (знаю это не от Некрасова), что ему лично послал вызов Пальмиро Тольятти. Вместо Некрасова в Италию послали Любомира Дмитерко. Последнего приняли, но Тольятти напомнил, что он вызывал Некрасова персонально. Последовал второй вызов. Вместо Некрасова послали Суркова. Тольятти был удивлен и шокирован, спросил кого-то из работников ЦК или руководите Союза писателей (кого именно, я не запомнил):
— Хотел бы знать, что у вас гласит закон гостеприимства: если приглашают Иванова, может ли являться и гости Петров?
В третий раз наконец послали Некрасова. Он был прянят должным образом и написал об Италии прекрасную книгу.
Чем радушнее принимали Некрасова за рубежом, тем тяжелей жилось ему в Киеве. Его «поправляли», «наставляли», прорабатывали. Точнее — и ближе к жизни: приходили с обысками, вызывали, допрашивали. Постарались в этом деле посещавшие Хрущева шептуны и его застольные информаторы Корнейчук и Василевская, запугивающие Никиту Сергеевича якобы существовавшими в интеллигентных кругах заговорами, чем-то вроде «клуба Петефи» в Венгрии. Хрущев им верил и на дачных встречах показывал писателям, художникам, музыкантам «кузькину мать». Матерная символика имела успех.
В последний раз мы встретились с Виктором Платоновичем во второй половине шестидесятых годов в Дубултах. Его с матерью Зинаидой Николаевной поселили в старом так называемом Белом доме, где уже несколькими днями раньше вместе с моей матерью Софьей Григорьевной поселился я. Мы жили на первом этаже. Некрасовы — на втором. Белый дом выходил на улицу, которая вела с шоссе к морю и называлась улицей Гончарова. Говорят, в свое время здесь живал автор «Обломова» Иван Александрович Гончаров. Отсюда и название улицы.
Рано утром до завтрака мы с Некрасовым бежали к заливу, купались, прохаживались по берегу до Майори и обратно. Потом бегом возвращались в Белый дом, где, облокотясь на подоконники, нас уже ждали наши матери. Одна в первом этаже, другая — во втором. Умилительно и незабываемо.
О многом мы успевали поговорить во время наших ежедневных прогулок. Жизнь текущая, литература, «Новый мир», Твардовский, дела киевские, судьбы старых друзей, их разобщенность, разобщенность совсем молодых. О чем только ни говорили! И одна тема не столько главенствовала, сколько глубоко касалась обоих, особенно, осмелюсь сказать, меня, т. к. это была пастернаковская тема. Она тянулась с киевских времен, когда я с переменным успехом читал Некрасову наизусть полюбившиеся мне строки из ранних книг — «Сестра моя — жизнь», «Поверх барьеров», «Тема и вариации». В тех случаях, когда в молодости мы заняты были другими темами, Некрасов не без ехидства напоминал:
— Что-то давно я не слышал Пастернака?
Сейчас при новой, как я уже сказал, последней встрече Некрасов поведал мне о своей поездке в Италию, о Фельтринелли, первом издателе «Доктора Живаго», о том, как попала к нему рукопись романа. Отчетливо помню, как в самом начале развязанной против Пастернака кампании Некрасов, увидевший в руках Фельтринелли протестующую телеграмму автора «Доктора Живаго», был крайне растревожен. Виктор Платонович позвонил в Москву в Союз писателей и просил опубликовать в советской прессе текст этой телеграммы. Вполне возможно, что это сняло бы напряжение и вывело бы Пастернака из-под удара. Но, как показала жизнь, его хотели подвести под удар. И — подвели.
Дважды Некрасов беседовал с Сурковым, один раз — с человеком, фамилии которого сейчас не помню. Было обещано решительно все сделать (мелькнуло словцо «оперативно»), но все было сделано наоборот. Шло время. И Некрасов послал в Союз писателей телеграмму. Ответа не было. И когда он приехал из Италии, кампания была развязана и развивалась с неслыханной быстротой. Уже гремел Семичастный, уже экскаваторщики высказывались в «Правде», уже ликующая часть студентов Литературного института выходила на улицу с лучезарными лозунгами, предлагающими выдворить за пределы Советского Союза отщепенца и предателя. Я просил Некрасова написать об этом. Мне неизвестно, что хранится в его парижском архиве, есть ли в нем материалы на эту тему, но среди опубликованных его строк я ничего об этом эпизоде не читал. Интонация поведанного мне Некрасовым была такова: запомни, пожалуйста, это и, уж коли ты занимаешься «почвой и судьбой» Пастернака, расскажи об этом.
Мой краткий без подробностей, потонувших в бездне беспамятности, рассказ передает то, что слышал и о чем не смею молчать. Мы не были близкими друзьями, ни у Некрасова, ни у меня не было попыток сближения. Между встречами пролегали подчас огромные временные пласты, делавшие нашу перекличку почти неслышимой, сведенной на нет. Но каждый раз при новой встрече, самой короткой, возникало ощущение (но крайней мере у меня), что виделись только вчера и разговор вчера был важный, но он нечаянно прервался, и вот он возобновляется. Видимо, это чувство возникает у людей, которые встречались в юности, возлагали общие надежды на будущее, но жизнь-разлучница развела их и только то и делала, что добавляла горечи и соли, и белила волосы, и укорачивала и перечеркивала надежды. В зрелые и поздние годы Некрасов уже не говорил: «Будем терпеливы. Надежда питается терпением, иначе оно истощается». Он молчал, и под его седеющими усиками подрагивала в уголках губ едва заметная усмешка.
Москва, 1989
Лев Озеров «Маленькая повесть о Викторе Некрасове»