Произведения Виктора Некрасова
Через сорок лет...
(Нечто вместо послесловия)
Написано 7 мая 1981 г. в Иерусалиме.
Впервые опубликовано в книге
Виктора Некрасова «Сталинград» : повесть и рассказы,
Франкфурт-на-Майне : Посев, 1981, 456 с., с. 439—456.
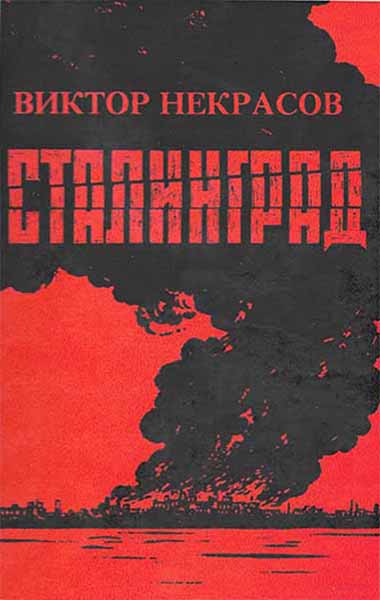 |
 |
Обложка книги |
Фронтиспис |
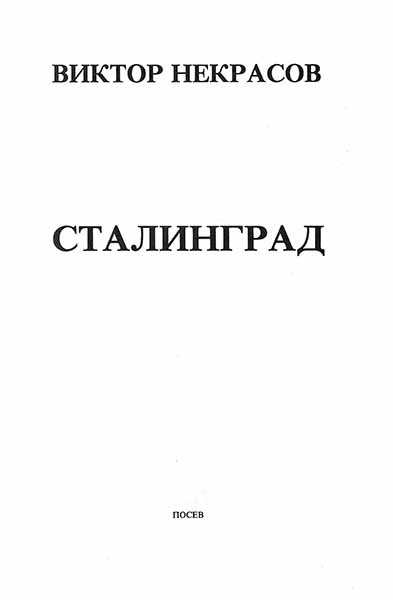 |
 |
Титульный лист |
Страница № 439 |
Перепечатано через год после смерти писателя
в книге «В окопах Сталинграда»,
Лондон : Overseas Publications Interchange, 1988, 310 с., с. 293—310
Первая публикация в СССР: Виктор Некрасов. Трагедия моего поколения. "В окопах Сталинграда": до и после (Литературная газета 12 сентября 1990, № 37)
Виктор Некрасов на «Радио Свобода»
читает статью «Через сорок лет...»
(Нечто вместо послесловия), 1981
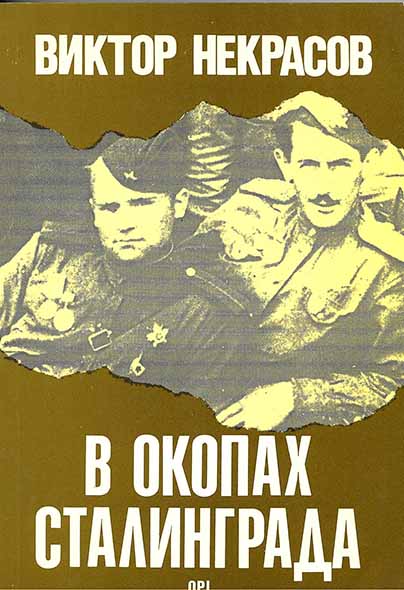 |
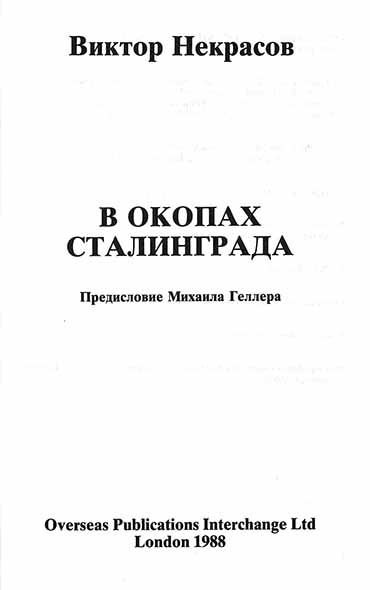 |
Обложка книги |
Титульный лист |
С. 293—310

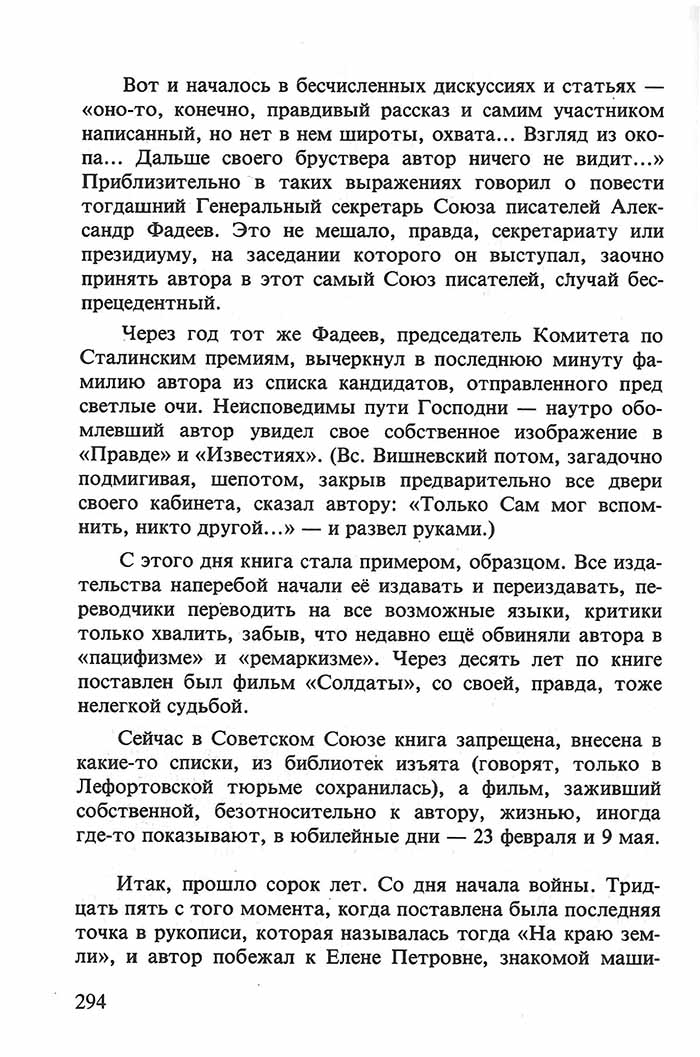


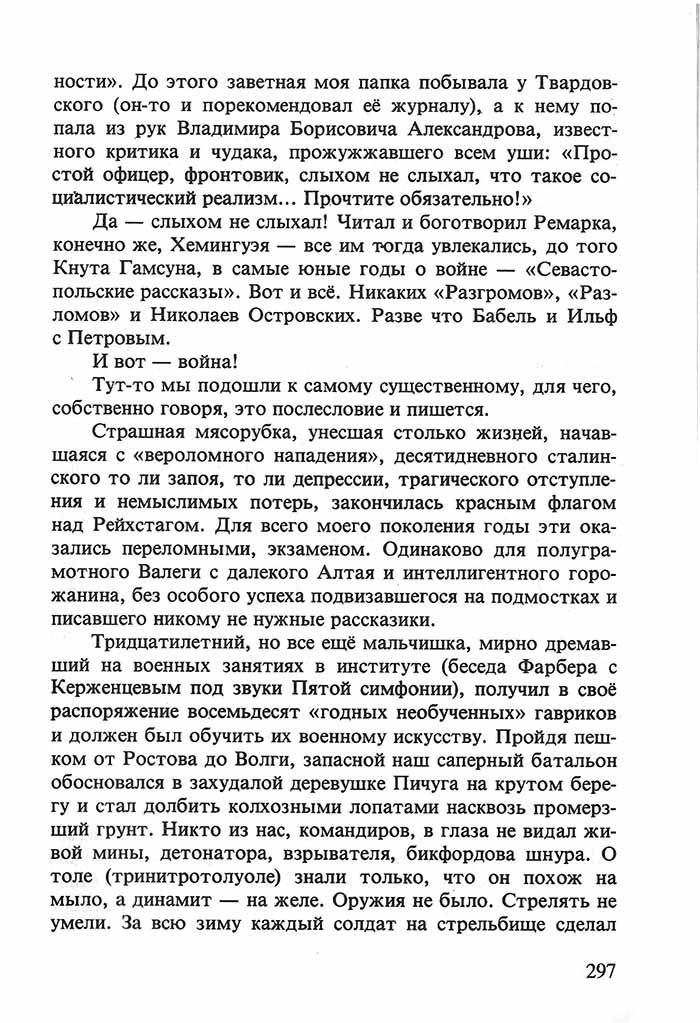


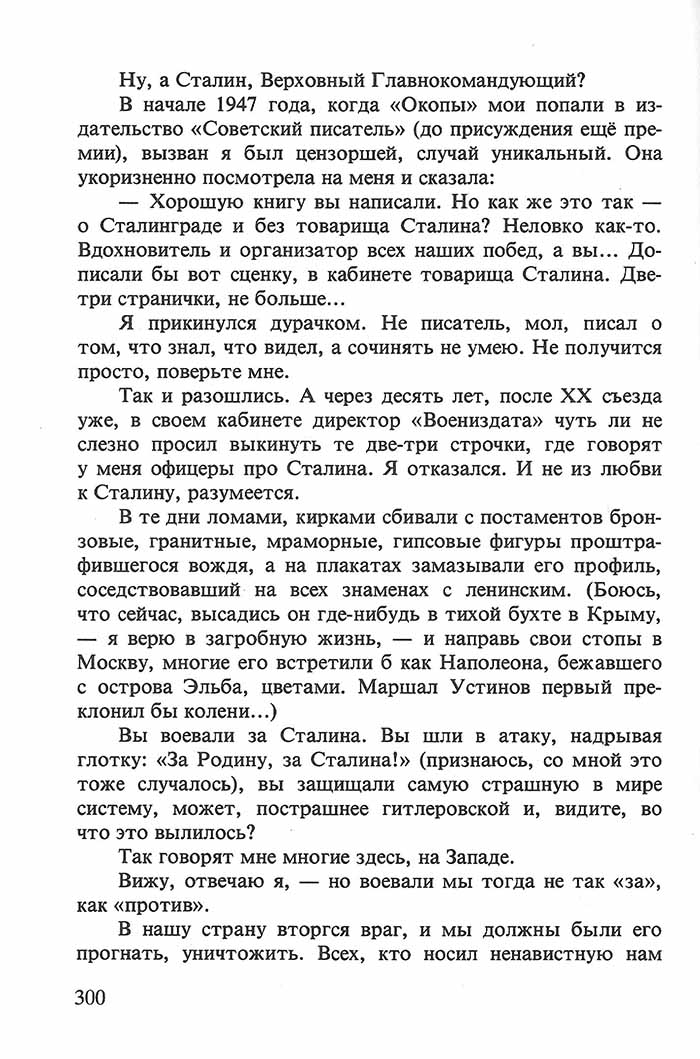


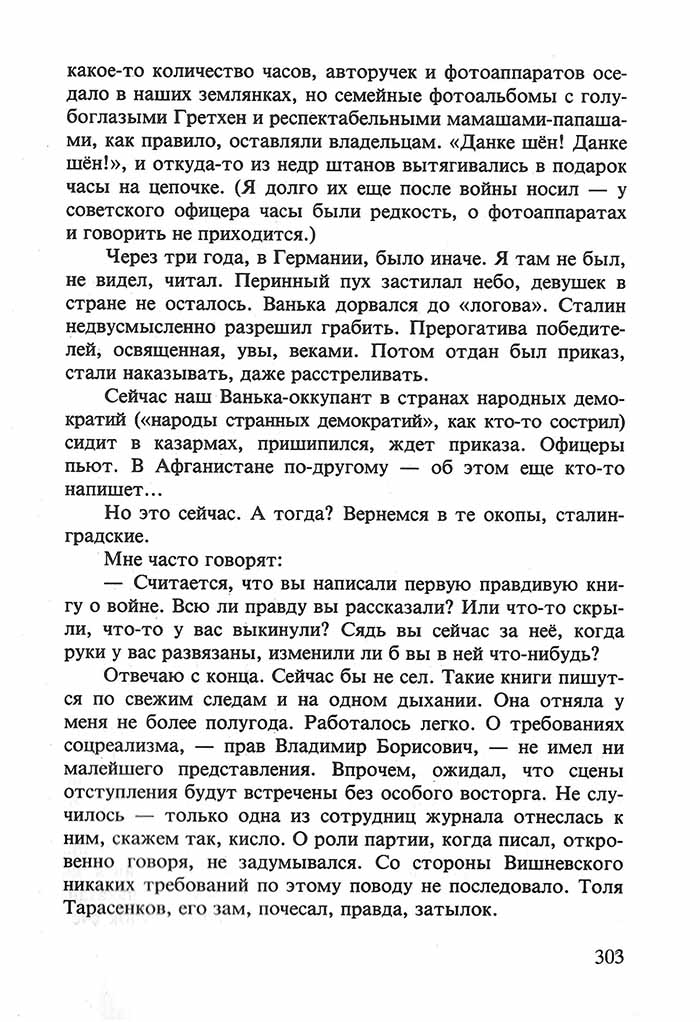
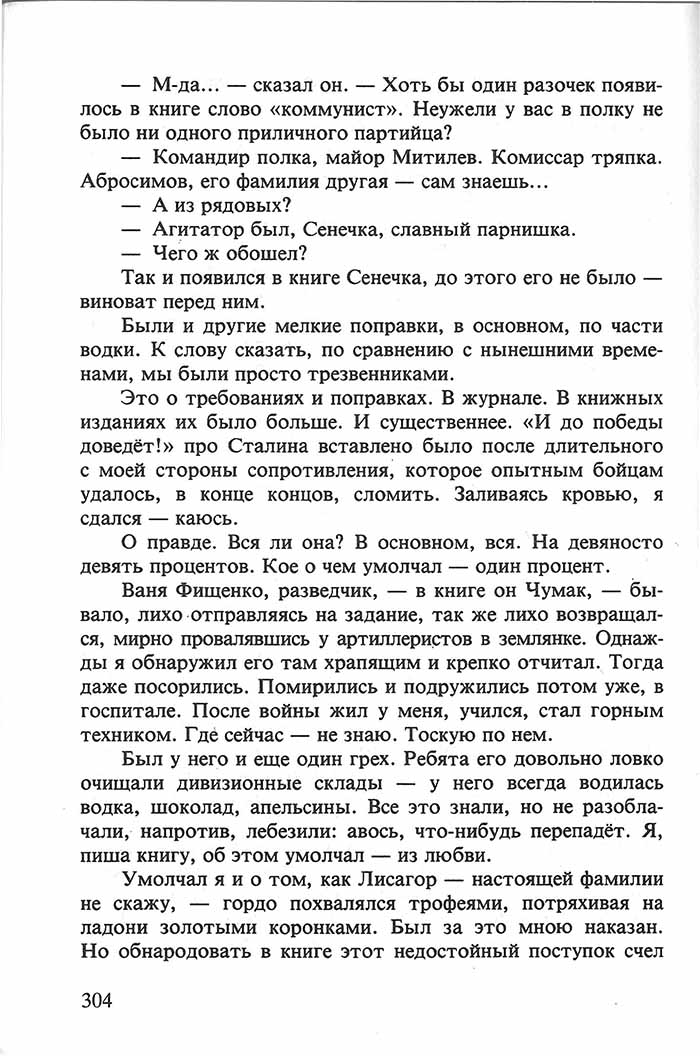




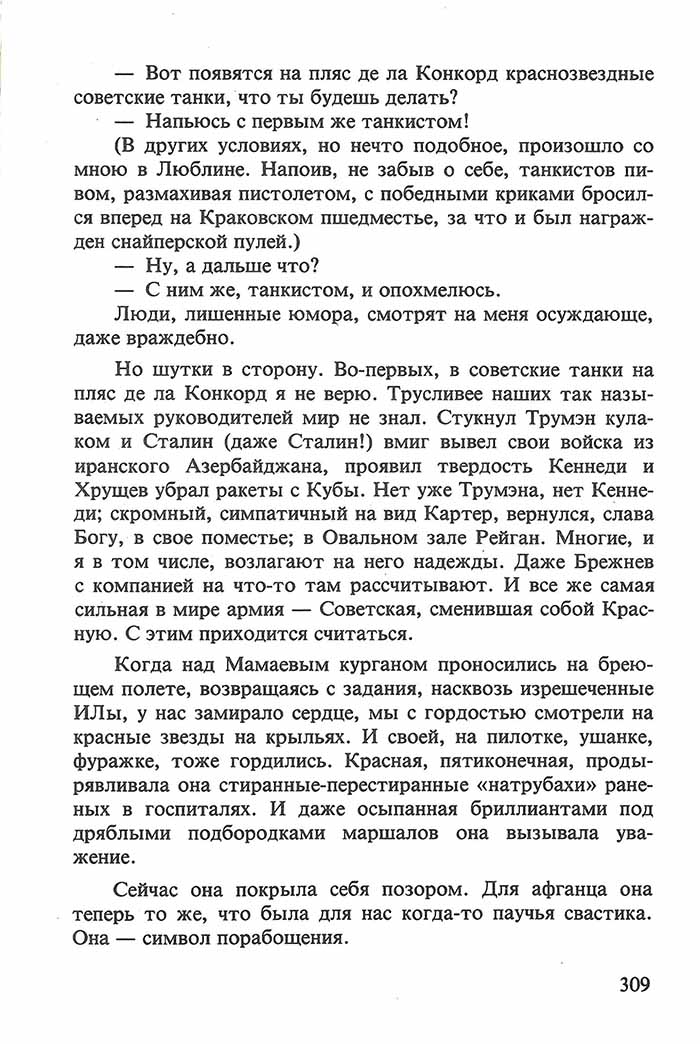

Год 1981-й, когда я взялся за это не столь легкое послесловие, насыщен юбилеями. Доживи до него, отпраздновали б свое столетие «первый красный офицер» К. Е. Ворошилов, и Пабло Пикассо, и Стефан Цвейг и звезда русского балета блистательная Анна Павлова и родная тетка моя С. Н. Мотовилова, тетя Соня, человек, ничего никогда не боявшийся, с меньшим авторитетом, но с пылом, не уступающим короленковскому, протестовавшая против всех беззаконий.
Сорок лет назад началась Великая Отечественная война, которую на Западе предпочитают называть Второй мировой или войной с фашизмом, а французская «Юманите» назвала даже Великой интернациональной.
Свой юбилей, тридцатипятилетний, отмечает и эта книга. Вернее, роман «Сталинград», появившийся на свет в №№ 8, 9 и 10 журнала «Знамя» за 1946 год. Кое-кому из литературных властей предержащих столь обобщающее название показалось кощунственным, и в последующих отдельных изданиях роман превратился в повесть, а «Сталинград», ставший символом и понятием нарицательным, в менее обязывающее «В окопах Сталинграда». Не искушенный еще в тонкостях социалистического реализма автор с некоторым удивлением, но мужественно перенес первый нанесенный ему удар.
Само появление повести казалось в те дни невероятным, неправдоподобным. Литературная общественность растерялась. Книга о войне, о Сталинграде, написанная не профессионалом, а рядовым офицером. Ни слова о партии, три строчки о Сталине... Не влезало ни в какие ворота. С другой стороны, свои страницы предоставил ей более чем авторитетный журнал «Знамя», и редактор его, Bс. Вишневский, живой классик, один из влиятельнейших руководителей Союза писателей — человек, во всем искушенный, знает, что к чему, что можно, чего нельзя.
Вот и началось в бесчисленных дискуссиях и статьях — «оно-то, конечно, правдивый рассказ и самим участником написанный, но нет в нем широты охвата... Взгляд из окопа... Дальше своего бруствера автор ничего не видит...» Приблизительно в таких выражениях говорил о повести тогдашний генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев. Это не мешало, правда, секретариату или президиуму, на заседании которого он выступал, заочно принять автора в этот самый Союз писателей, случай беспрецедентный.
Через год тот же Фадеев, председатель Комитета по Сталинским премиям, вычеркнул в последнюю минуту фамилию автора из списка кандидатов, отправленного пред светлые очи. Неисповедимы пути Господни — наутро обомлевший автор увидел свое собственное изображение в «Правде» и «Известиях». (Вс. Вишневский потом, загадочно подмигивая, шепотом, закрыв предварительно все двери своего кабинета, сказал автору: «Только Сам мог вспомнить, никто другой...» — и развел руками.)
С этого дня книга стала примером, образцом. Все издательства наперебой начали ее издавать и переиздавать, переводчики переводить на все возможные языки, критики только хвалить, забыв, что недавно еще обвиняли автора в «пацифизме» и «ремаркизме». Через десять лет по книге поставлен был фильм «Солдаты», со своей, правда, тоже нелегкой судьбой.
Сейчас в Советском Союзе книга запрещена, внесена в какие-то списки, из библиотек изъята (говорят, только в Лефортовской тюрьме сохранилась). Да фильм, заживший собственной, безотносительно к автору, жизнью, иногда где-то показывают, в юбилейные дни — 23 февраля и 9 мая.
Итак, прошло сорок лет. Со дня начала войны. Тридцать пять с того момента, когда поставлена была последняя точка в рукописи, которая называлась тогда «На краю земли», и автор побежал к Елене Петровне, знакомой машинистке, и стал по вечерам диктовать написанное, страницу за страницей.
Автору, то есть мне, было тогда тридцать пять лет. Сейчас семьдесят. Полжизни до книги, полжизни после.
Первая половина — детство, отрочество и юность. В общем-то аполитичная, хотя к чтению газет — в основном киевской «Пролетарской правды» — привык с раннего детства. В годы Гражданской войны «болел» за Деникина, Колчака, Врангеля. В 1924 же году — тринадцатилетним мальчиком — отморозил себе уши, топчась на Крещатике под траурные гудки заводов — умер Ленин. К великому недоумению родителей, повесил в столовой громадный портрет вождя и конверты (подражая матери, любил писать письма) старательно обводил черной тушью.
Ни пионером, ни комсомольцем никогда не был. Относился к ним иронически, как и к самой советской власти. Ближайшие друзья — школьные, профшкольные, институтские — тоже. С политзанятий, всяких диаматов и обществоведении по возможности смывались. Иногда, когда очень уж прижмут, прорабатывали решения очередных съездов, тут же их забывали и бежали на пляж. Что творилось на селе — тридцатые годы, коллективизация — знали больше понаслышке, хотя иной раз и видали подводы, набитые трупами.
Молодость, увлечения, архитектура, театр... По очереди хотелось быть то Корбюзье, то Станиславским, на худой конец, Михаилом Чеховым. К тому же малость и пописывали. Собирались у Сережи Доманского в его холостяцкой комнате на Трехсвятительской и, для таинственности зажегши свечу на круглом черном столе, читали друг другу свои, конечно же на грани гениальности, «опусы», смесь Гамсуна с Хемингуэем. А на дворе, как говорится, гремели челюскинцы, папанинцы, ледоколы «Красин» и «Малыгин», стратосфера, перелеты Чкалова — победа за победой. На экранах Потемкин, Чапаев, Максим...
Тридцать седьмые годы чудом не задели. Загадка. Родители из «бывших», дворяне, та самая бесстрашная тетя Соня писала письма Крупской, Ногину, Бонч-Бруевичу по поводу несправедливых арестов, другая тетка жила в Швейцарии — оживленная переписка, деньги на Торгсин... И никого никуда никогда не вызывали. (Только отдаленного какого-то дядюшку-богача в Миргороде посадили.) Чем это объяснить — не знаю. Может, уберегли чекисты, жившие всегда в одной из комнат нашей уплотненной квартиры — мать лечила всех их детей, да и их самих заодно.
Так прошла молодость. Кончил институт, театральную студию. Работал в театре. Бродячем, левом, полулегальном. Исколесил все дыры Киевской, Житомирской, Винницкой областей. «Тайна Нельской башни», «Стакан воды», «Парижские нищие», «За океаном», отважились даже на «Анну Каренину» — стыдно вспомнить. Потом Владивосток, Киров (бывш. Вятка) — это уже настоящие театры. Ролишки третьеразрядные. Подхалтуривал декорациями. По вечерам что-то писал. Посылал в журналы. Возвращали. К счастью...
Последний театр в Ростове-на-Дону. Театр Красной Армии. Оттуда и взяли в армию. Война.
Сталинград. Донец. Ранение. Госпиталь в Баку. Второе ранение — в Польше, в Люблине. Киевский окружной госпиталь. Правая рука парализована, пуля задела нерв.
— Вам надо пальцы правой руки приучать к мелким движениям, — сказал мне как-то лечащий врач по фамилии Шпак. — Есть у вас любимая девушка? Вот и пишите ей письма ежедневно. Только не левой, а правой рукой. Хорошее упражнение.
Любимой девушки у меня не было, и я, примостившись где-то на склонах спускавшегося из госпиталя к Красному стадиону парка, стал писать о Сталинграде — все еще было свежо.
В день, когда мне стукнуло тридцать пять и первая половина (на сегодняшний день...) жизни кончилась, рукопись была уже в наборе. Исправлений почти никаких, дописана была только концовка — «для композиционной закругленности». До этого заветная моя папка побывала у Твардовского (он-то и порекомендовал ее журналу), а к нему попала из рук Владимира Борисовича Александрова, известного критика и чудака, прожужжавшего всем уши: «Простой офицер, фронтовик, слыхом не слыхал, что такое социалистический реализм... Прочтите обязательно!»
Да — слыхом не слыхал! Читал и боготворил Ремарка, конечно же, Хемингуэя — все им тогда увлекались, до того Кнута Гамсуна, в самые юные годы о войне — «Севастопольские рассказы». Вот и все. Никаких «Разгромов», «Разломов» и Николаев Островских. Разве что Бабель и Ильф с Петровым.
И вот — война!
Тут-то мы подошли к самому существенному, для чего, собственно говоря, это послесловие и пишется.
Страшная мясорубка, унесшая столько жизней, начавшаяся с «вероломного нападения», десятидневного сталинского то ли запоя, то ли депрессии, трагического отступления и немыслимых потерь, закончилась красным флагом над Рейхстагом. Для всего моего поколения годы эти оказались переломными, экзаменом. Одинаково для полуграмотного Валеги с далекого Алтая и интеллигентного горожанина, без особого успеха подвизавшегося на подмостках и писавшего никому не нужные рассказики.
Тридцатилетний, но все еще мальчишка, мирно дремавший на военных занятиях в институте (беседа Фарбера с Керженцевым под звуки Пятой симфонии), получил в свое распоряжение восемьдесят «годных необученных» гавриков и должен был обучить их военному искусству. Пройдя пешком от Ростова до Волги, запасной наш саперный батальон обосновался в захудалой деревушке Пичуга на крутом берегу и стал долбить колхозными лопатами насквозь промерзший грунт. Никто из нас, командиров, в глаза не видал живой мины, детонатора, взрывателя, бикфордова шнура. О толе (тринитротолуоле) знали только, что он похож на мыло, а динамит — на желе. Оружия не было. Стрелять не умели. За всю зиму каждый солдат на стрельбище сделал по одному выстрелу — патронов и на фронте-то было в обрез.
К весне 42-го года рядовой состав был отправлен в Крым, где и сложил свои кости, а комсостав, полковыми инженерами, в действующую армию, в район Донца. Оружия по-прежнему не было. Из станицы Серафимович наш стрелковый (!) полк выступил с палками вместо винтовок на плечах. Полковая артиллерия — бревна на колесах от подвод. Во всем полку только две учебные винтовки — их торжественно несли два ассистента по бокам знамени — святыни полка. Мы бодро, «С места песню!», рубанули шаг, бабы зарыдали: «Родимые вы наши, с палками-то на немцев!» Кто мог придумать этот цирк — до сих пор ломаю голову.
На передовую угодили прямо к началу «плана Барбаросса». Оружие получили за сутки до того, как «вступили в дело». Солдаты — мосиновские винтовки образца 1891 года, офицеры — пистолеты ТТ. И то, и другое держали в руках первый раз в жизни. Попытались тренироваться на воронах, запретили — передовая рядом.
«Вступление в дело» вылилось в повальное бегство. Утром «Юнкерсы-88» засыпали бомбами, на бреющем пронеслись «мессера» и полезли на нас танки. Мы лежали в кустах «рубежа», который должны были держать, и тихо заполняли штаны. Я скомандовал: «По одному, перебежками, к той роще!» — и сам за бойцами засверкал пятками. Знаменитый Нурми мог мне позавидовать...
Так началась «моя» война. Закончилась она в июле 1944 года в Люблине — пуля немецкого снайпера с крыши дома на Краковском Пшедместье перебила правую плечевую кость.
Через полгода был демобилизован, стал именоваться «инвалидом Отечественной войны II-й группы», получил пенсию. Оставалось только передвигать флажки на большой, немецкого происхождения, карте Европы, повешенной на стене, на самом видном месте.
9 мая 45-го мы все напились, без конца целовались, у кого сохранились пистолеты — стреляли в воздух и опять бежали за водкой.
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Предсказание заики Вячека — Каменная задница, он же Бараний лоб, как звали в гимназии юного Вячеслава Скрябина, через четыре года исполнилось в этот незабываемый весенний день.
Мы победили! Фашизм — самое страшное на свете — разгромлен. Муссолини повешен вверх ногами, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Через месяц черно-красные стяги с орденами и свастиками падут к ногам победителя — великий Сталин будет улыбаться с Мавзолея.
Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмые годы, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза можно его объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, ставшие солдатами, поверили в этот миф и с чистой душой, открытым сердцем вступили в партию Ленина — Сталина.
В мире воцарится мир! Взошло наконец солнце свободы! Для всех. Для освобожденных народов, для нас, для меня...
Именно в это — что Красная Армия принесла миру мир и свободу! — верил я, когда полупарализованными пальцами выводил на склонах Красного стадиона в школьной тетрадке первую фразу:
«Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно...»
Тридцать шесть лет назад я так думал. Дико тосковал по березовым своим «колышкам», по друзьям-офицерам, чуть меньше по начальству. И хотелось, чтоб все любили мою Красную Армию, армию-освободительницу. Она заслужила это — своею кровью, потом, ранами, могилами...
Ну, а Сталин, Верховный Главнокомандующий?
В начале 1947 года, когда «Окопы» мои попали в издательство «Советский писатель» (до присуждения еще премии), вызван я был цензоршей, случай уникальный. Она укоризненно посмотрела на меня и сказала:
— Хорошую книгу вы написали. Но как же это так — о Сталинграде и без товарища Сталина? Неловко как-то. Вдохновитель и организатор всех наших побед, а вы... Дописали бы вот сценку, в кабинете товарища Сталина. Две-три странички, не больше...
Я прикинулся дурачком. Не писатель, мол, писал о том, что знал, что видел, а сочинять не умею. Не получится просто, поверьте мне.
Так и разошлись. А через десять лет, после XX съезда уже, в своем кабинете директор «Воениздата» чуть ли не слезно просил выкинуть те две-три строчки, где говорят у меня офицеры про Сталина. Я отказался. И не из любви к Сталину, разумеется.
В те дни ломами, кирками сбивали с постаментов бронзовые, гранитные, мраморные, гипсовые фигуры проштрафившегося вождя, а на плакатах замазывали его профиль, соседствовавший на всех знаменах с ленинским. (Боюсь, что сейчас, высадись он где-нибудь в тихой бухте в Крыму, — я верю в загробную жизнь, — и направь свои стопы в Москву, многие его встретили б, как Наполеона, бежавшего с острова Эльба, цветами. Маршал Устинов первый преклонил бы колени...)
Вы воевали за Сталина. Вы шли в атаку, надрывая глотку: «За Родину, за Сталина!» (признаюсь, со мной это тоже случалось), вы защищали самую страшную в мире систему, может, пострашнее гитлеровской, и видите, во что это вылилось?
Так говорят мне многие здесь, на Западе.
Вижу, отвечаю я, но воевали мы тогда не так «за», как «против».
В нашу страну вторгся враг, и мы должны были его прогнать, уничтожить. Всех, кто носил ненавистную нам форму и «Gott mil uns» на пряжках поясов. Я не вправе осуждать власовцев — я с ними не сталкивался, многого не знаю, — но попадись они на нашем пути, мы б в них стреляли.
А вот во что все это выльется, мы этого не знали. Никто тогда не знал.
Я шатался с рукой на перевязи по освобожденному нами Люблину и видел только улыбки. Меня приглашали, угощали, поили. Столько выпито было «бимбера», крепчайшего польского самогона. Счастливые дни! Сейчас я не отважился бы со своим русским языком сунуть хоть кончик носа на улицы того же Люблина, Варшавы. И на улицы Праги тоже. А ведь и там мне улыбались, глядя на мои погоны (я был уже журналистом, но с ними не расставался), и угощали если не «бимбером», то хмельным чешским пивом.
Я не знаю, что и с кем пьют сейчас советские офицеры расквартированных в «братской» Польше дивизий. Не знаю, о чем они думают, о чем они говорят, «раздавливая» свою очередную поллитровку, но я знаю твердо — собутыльником их никогда не будет поляк.
Я встречался с человеком, бежавшим из Афганистана. Афганцем. Десять лет проучился он в Москве, кончил университет, аспирантуру, сдружился с русскими, полюбил их, пел вместе с ними: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет солнце!» А теперь, — с какой горечью говорил он мне, — эти же русские, ну, не эти, другие, убивают наших мам, отбирают наше солнце. Русских ненавидят! Все. Поголовно. А ведь когда-то любили...
Слушаешь, и кровь холодеет. Наш «березовый колышек» стал оккупантом. Это он жжет напалмом деревни, отравляет газами (восьмилетняя дочь моего афганца до сих пор проходит курс лечения, отравили целую школу, а потом появилось телевидение — жертвы, мол, бандитов). Это он, «березовый колышек», сеет вокруг себя смерть, не вылезая из танка, сбрасывает с вертолетов крохотные мины в виде ручных часов и детских игрушек. Нет, они не убивают, эти мины, но скольких несчастных, с оторванными руками и ступнями, видел мой афганец... А по ночам «колышек» грабит магазины, ищет сигареты, торгует «Калашниковыми», меняет на гашиш. Да-да, гашиш. «Колышек» стал наркоманом, водки ему уже мало. И вечно голоден. Жрать хочет...
Я жадно расспрашиваю людей, приезжающих из Союза, что говорят дома об Афганистане, Польше. Разводят руками. Большинство ничего не говорят. Не знает. Радио глушат. В газетах врут. Какие-то слухи доходят. Иногда похоронки — «погиб, выполняя свой долг»... Тогда начинают что-то понимать. А в массе, в очередях: «Американцы и китайцы хотели прикарманить Афганистан, вот и не дали им... А поляки? Как те чехи. Чего им не хватало? Почище, посытнее нашего живут, за границу пускают, а вот, видишь, кобенятся. С жиру бесятся...»
Может быть, это самое страшное. Мы недооцениваем силу советской пропаганды, магию газетной строчки. Никто ничему давно уже не верит, а все же ложь эта обволакивает, влезает в душу. И девятнадцатилетний Ванька в ушанке со звездочкой на первых порах верит, что американцы и косоглазые позарились на наших соседей. А потом, раскумекав, злой, голодный, меняет автомат на гашиш... А до этого стреляет из него. И потом тоже. В кого? А хрен его знает, туды его растуды, разве поймешь? Приказывают — стреляю...
Нет, такого у нас не было. Мы знали, кто наш враг, и знали, что он жесток и силен и не мы, а он позарился на чужие земли. И тот же Ванька тех лет, с красной звездочкой на ушанке, мерз в окопах и шел в атаку, хотя отца его, возможно, и раскулачили, а о том, что три года тому назад мы сами заграбастали «чужую» Прибалтику, просто забыл, а может, и не знал. Он защищал свою землю.
В Афганистане пленных нет. Их убивают. С обеих сторон. Поэтому никто не сдается. Через наши руки в Сталинграде прошло триста тридцать тысяч. Через мои, в частности, несколько сот тех самых «экскурсантов»! Само собой разумеется, какое-то количество часов, авторучек и фотоаппаратов оседало в наших землянках, но семейные фотоальбомы с голубоглазыми Гретхен и респектабельными мамашами-папашами, как правило, оставляли владельцам. «Данке шён! Данке шён!», и откуда-то из недр штанов вытягивались в подарок часы на цепочке. (Я долго их еще после войны носил — у советского офицера часы были редкость, о фотоаппаратах и говорить не приходится.)
Через три года, в Германии, было иначе. Я там не был, не видел, читал. Перинный пух застилал небо, девушек в стране не осталось. Ванька дорвался до «логова». Сталин недвусмысленно разрешил грабить. Прерогатива победителей, освященная, увы, веками. Потом отдан был приказ, стали наказывать, даже расстреливать.
Сейчас наш Ванька-оккупант в странах народных демократий («народы странных демократий», как кто-то сострил) сидит в казармах, пришипился, ждет приказа. Офицеры пьют. В Афганистане по-другому — об этом еще кто-то напишет...
Но это сейчас. А тогда? Вернемся в те окопы, сталинградские.
Мне часто говорят:
— Считается, что вы написали первую правдивую книгу о войне. Всю ли правду вы рассказали? Или что-то скрыли, что-то у вас выкинули? Сядь вы сейчас за нее, когда руки у вас развязаны, изменили ли б вы в ней что-нибудь?
Отвечаю с конца. Сейчас бы не сел. Такие книги пишутся по свежим следам и на одном дыхании. Она отняла у меня не более полугода. Работалось легко. О требованиях соцреализма — прав Владимир Борисович — не имел ни малейшего представления. Впрочем, ожидал, что сцены отступления будут встречены без особого восторга. Не случилось — только одна из сотрудниц журнала отнеслась к ним, скажем так, кисло. О роли партии, когда писал, откровенно говоря, не задумывался. Со стороны Вишневского никаких требований по этому поводу не последовало. Толя Тарасенков, его зам, почесал, правда, затылок.
— М-да... — сказал он. — Хоть бы один разочек появилось в книге слово «коммунист». Неужели у вас в полку не было ни одного приличного партийца?
— Командир полка, майор Митилев. Комиссар тряпка. Абросимов, его фамилия другая — сам знаешь...
— А из рядовых?
— Агитатор был, Сенечка, славный парнишка.
— Чего ж обошел?
Так и появился в книге Сенечка, до этого его не было — виноват перед ним.
Были и другие мелкие поправки, в основном по части водки. К слову сказать, по сравнению с нынешними временами мы были просто трезвенниками.
Это о требованиях и поправках. В журнале. В книжных изданиях их было больше. И существеннее. «И до победы доведет!» про Сталина вставлено было после длительного с моей стороны сопротивления, которое опытным бойцам удалось в конце концов сломить. Заливаясь кровью, я сдался — каюсь.
О правде. Вся ли она? В основном вся. На девяносто девять процентов. Кое о чем умолчал — один процент.
Ваня Фищенко, разведчик — в книге он Чумак, — бывало, лихо отправляясь на задание, так же лихо возвращался, мирно провалявшись у артиллеристов в землянке. Однажды я обнаружил его там храпящим и крепко отчитал. Тогда даже поссорились. Помирились и подружились потом уже, в госпитале. После войны жил у меня, учился, стал горным техником. Где сейчас — не знаю. Тоскую по нем.
Был у него и еще один грех. Ребята его довольно ловко очищали дивизионные склады — у него всегда водилась водка, шоколад, апельсины. Все это знали, но не разоблачали, напротив, лебезили: авось что-нибудь перепадет. Я, пиша книгу, об этом умолчал — из любви.
Умолчал я и о том, как Лисагор — настоящей фамилии не скажу — гордо похвалялся трофеями, потряхивая на ладони золотыми коронками. Был за это мною наказан. Но обнародовать в книге этот недостойный поступок счел неуместным, да и было это уже в мирные сталинградские дни.
Утаил я и собственные, виноват, керженцевские не очень достойные поступки. Приказал мне как-то дивизионный инженер покрасить все противопехотные и противотанковые мины белой краской, чтоб не выделялись на снегу. «Приказ выполнен!» — доложил я, не выходя из своей землянки, — сходи-ка на передовую, проверь, там стреляют.
Врали мы и в донесениях, особенно о количестве сбитых вражеских самолетов. Каждый батальон приписывал очередной сбитый «Мессершмитт» меткому ружейно-пулеметному огню своего подразделения. Судя по этим донесениям, немецкая авиация давно перестала бы существовать...
Книга написана давно. Человеком, к тому времени кое-что уже познавшим в военном деле. Но о сциллах и харибдах открывшегося перед ним нового пути он не знал ничего. Не знал, например, что он, новоиспеченный член Союза писателей, должен заражать и утверждать, воспитывать и направлять, творчество его должно быть верным оружием, а сам он первым помощником и вдохновенным певцом. «Трудное искусство воспевать!» — на всю жизнь запомнился мне заголовок статьи режиссера Малого театра Равенских в «Советской культуре».
Все это я узнал потом. Научился всем сложным приемам циркового искусства, без знания которого — эквилибристики, жонглирования, балансирования, хождения по проволоке, а то и по лезвию ножа — и дня не проживешь на арене советской литературы. Пригодилось и знание военного искусства — стратегия и тактика, ближний и дальний прицел, умение сдавать сопки пониже, чтоб завладеть господствующими высотами.
Есть в советском литературно-издательском процессе нечто, не известное на Западе, — институт редакторов. Редактор — это человек, знающий лучше тебя, писателя, что можно, а чего нельзя. Он вычеркивает и вставляет, заменяет и уточняет, уговаривает и настаивает, хорошо знает вкусы и капризы главного редактора, директора издательства, инструктора ЦК и, конечно же, все последние идеологические решения и постановления партии.
Советская литература, самая передовая в мире, всегда находится в состоянии мобилизационной готовности. Всегда готовая к бою. За без малого тридцатилетнее мое пребывание в рядах славного нашего Союза писателей я не припомню дня, чтоб мы с чем-нибудь да не боролись: буржуазным национализмом, великодержавным шовинизмом, космополитизмом, низкопоклонством, бесконфликтностью, воспеванием седого прошлого, отрывом от современной тематики, с недооценкой рабочего класса, ну и, конечно же, с алкоголизмом. С этим последним борьба не остывает никогда — ни днем, ни ночью, ни в жизни, ни в творчестве. Здесь я понес наибольшие потери. Даже Твардовский, отнюдь не гнушавшийся в быту, выплескивал из стаканов моих героев водку и вливал туда пиво.
Оружие советского литератора всегда готово к бою, отточено и никогда не ржавеет, пороховницы полны и сухи, и все же он, писатель, всегда в долгу у взыскательного нашего читателя — об этом говорится на каждом пленуме, каждом съезде — не достаточно еще глубоко проник, порой поверхностен, что-то упустил из виду. И вот тут-то на помощь приходит редактор. В непрекращающихся схватках он всегда знает, куда надо направить огонь, подаст вовремя нужное оружие, перехватит из твоих рук руль утлого твоего челна и развернет паруса под тот ветер, который нужен, наш ветер. За все свои советы, подсказки и повороты руля он, редактор, получает соответствующее вознаграждение. Умный писатель слушается, и все идет как по маслу — массовый тираж, библиотечка «Огонек», того гляди и премия, поездка за границу.
Но не все писатели, к сожалению или к счастью, умны, не все редакторы послушно следуют исходящим сверху указаниям. Мне посчастливилось работать именно с такими редакторами: умными и хитрыми, смелыми и, где надо осторожными, познавшими все премудрости фехтования и хождения по проволоке. Я им обязан если не первой, то второй и всеми последующими ступенями восхождения по крутой и коварной лестнице, ведущей к литературному Олимпу. До него, официально признанного и утвержденного, с бархатными коврами и лимузинами — туда ведет уже не лестница, а лифт, — я так и не добрался, сшибли, но это уже другая тема, об этом в другой раз...
Полжизни до книги, полжизни после. Подводятся какие-то итоги.
Тридцать лет в партии — самой жестокой, самой трусливой, сильной, беспринципной и растленной в мире. Поверил в нее, вступил и к концу пребывания в ней — возненавидел. Три года в армии, в самые тяжелые для нее дни. Полюбил ее и победами ее горжусь. Полюбил вечно чем-то недовольного рядового, бойца — солдатом он стал называться позже. Нет, не того, что на плакатах или в Берлине, в Тиргартене, спокойного, уверенного, в каске — их никто никогда не носил, — а другого, в пилотке до ушей, в обязательно разматывающихся обмотках, ворчливого, матюкающего старшину больше, чем немца, пропахавшего пол-Европы и вскарабкавшегося на Рейхстаг. Я знал этих двоих — Егорова и Кантарию, — смекалистых ребят, дружно выступавших после войны в оккупационных войсках. «Повезло нам, и все! — признавались они потом за рюмочкой. — Таких групп, как наша, было не меньше десяти или двенадцати, но мы вот первые добрались, и звездочки повесили нам, а не тем. А могло быть и иначе...»
Генералов я почти не знал. С маршалом Чуйковым, командующим 8-й армией в Сталинграде, которого мы все боготворили — он, не сгибаясь, ходил по передовой в своей папахе, — я столкнулся уже потом, в Киеве: он командовал Киевским военным округом. Ленфильмовцы упросили меня показать ему сценарий будущих «Солдат». В восторг он не пришел, но и ругать не ругал, как впоследствии генералы Политуправления, только сказал:
— Что же вы Зайцева, прославленного нашего снайпера, не показали? Зря обошли. Вставили б...
А Зайцев, Герой Советского Союза, в то время был уже секретарем Подольского райкома в Киеве и физиономию успел отъесть, и встречаться с ним не хотелось. Да и сам-то Чуйков в дни «хрущевской оттепели» говорил своему другу Вучетичу, обессмертившему его в своем мемориале на Мамаевом кургане в образе гигантского голого солдата с автоматом в руках: «Держись, брат, наша возьмет, партия победит!» Это когда монополистам в искусстве казалось, что их теснят.
Я не знаю теперешней армии. Приехав в свой собственный 88-й саперный батальон в Германии — после первого ранения я с полгода был там замкомбата, — с уважением и тайной завистью смотрел на молоденьких солдат, в новой технике разбиравшихся куда лучше меня. А вот в своем же 227-м Гвардейском полку, в той же Германии, я попал впросак. Наслушавшись о Сталинграде, которым их, новичков, все время попрекали, солдаты попросили рассказать им о Западной Германии, Бизоний, как она в те годы называлась, — я только что побывал там с группой журналистов. Командир полка вовремя пресек мои более чем патриотические излияния о расхлябанности и недисциплинированности американской армии, сославшись на мою усталость, а потом, у себя дома уже, крепко меня отчитал:
— Что же это вы моим бугаям рассказываете о каких-то пьяных американских офицерах, в обнимку с блядями раскатывающих по всяким там Нюрнбергам? Они же у меня мигом через границу прыснут. Без баб ведь изнывают, дрочат по ночам...
Подходим к концу. Так и не разобравшись в запутанном клубке воспоминаний, эмоций, противоречий. Как и положено советскому (хотя и в прошлом, но повадки остались) писателю, все еще в долгу у требовательного, взыскательного читателя. Постараюсь его все же как-то оплатить.
Один из излюбленнейших вопросов здесь, в Париже:
— Вот появятся на плас де ла Конкорд краснозвездные советские танки, что ты будешь делать?
— Напьюсь с первым же танкистом!
(В других условиях, но нечто подобное произошло со мною в Люблине. Напоив, не забыв о себе, танкистов пивом, размахивая пистолетом, с победными криками бросился вперед на Краковском Пшедместье, за что и был награжден снайперской пулей.)
— Ну, а дальше что?
— С ним же, танкистом, и опохмелюсь.
Люди, лишенные юмора, смотрят на меня осуждающе, даже враждебно.
Но шутки в сторону. Во-первых, в советские танки на пляс де ла Конкорд я не верю. Трусливее наших так называемых руководителей мир не знал. Стукнул Трумэн кулаком, и Сталин (даже Сталин!) вмиг вывел свои войска из иранского Азербайджана, проявил твердость Кеннеди, и Хрущев убрал ракеты с Кубы. Нет уже Трумэна, нет Кеннеди; скромный, симпатичный на вид Картер вернулся, слава Богу, в свое поместье; в Овальном зале Рейган. Многие, и я в том числе, возлагают на него надежды. Даже Брежнев с компанией на что-то там рассчитывают. И все же самая сильная в мире армия — Советская, сменившая собой Красную. С этим приходится считаться.
Когда над Мамаевым курганом проносились на бреющем полете, возвращаясь с задания, насквозь изрешеченные «ИЛы», у нас замирало сердце, мы с гордостью смотрели на красные звезды на крыльях. И своей, на пилотке, ушанке, фуражке, тоже гордились. Красная, пятиконечная, продырявливала она стираные-перестираные «натрубахи» раненых в госпиталях. И даже осыпанная бриллиантами под дряблыми подбородками маршалов она вызывала уважение.
Сейчас она покрыла себя позором. Для афганца она теперь то же, что была для нас когда-то паучья свастика. Она — символ порабощения.
Ну, а все-таки выпью я «свои сто грамм» с советским танкистом? Не на площади Согласия, туда он никогда не придет — без капиталистического мира, американских займов, канадской пшеницы, аргентинского мяса, финских яичек, французских курочек зрелый наш социализм и дня не проживет, — в другом каком-нибудь месте, не знаю еще каком, но выпью! И он скажет мне тогда... Что он может сказать?
На книжной полке у меня в Париже висит фотография, обошедшая в свое время все журналы мира. На ней молоденький советский танкист в Праге в незабываемом 68-м году. Закурил в своей башне, смотрит на незнакомый, такой чужой ему город, на людей, которых он пришел то ли освобождать, то ли защищать, то ли покорять, и мальчишеский лоб его наморщен, и во взгляде только недоумение, растерянность и мучительно бьющаяся мысль — зачем я здесь? Зачем? И что мне делать?
«За правое дело». Так называлась замечательная книга большого русского писателя Василия Гроссмана. Она посвящена Сталинграду, одной из величайших битв в истории войн. Проснись он сейчас, Василий Семенович, мурашки пошли б у него по телу от одного этого названия. Он, умный, даже мудрый, много знавший, чего не знали мы, предельно правдивый, даже он считал, что мы воевали тогда за правое дело.
Враг будет разбит! Победа будет за нами! Но дело наше оказалось неправое. В этом трагедия моего поколения. И моя в том числе...
7.5.1981
Иерусалим