Произведения Виктора Некрасова
Из дальних странствий возвратясь…
(Рим, Париж, Нью-Йорк, Камчатка, далее везде...)
Путевые заметки
Журнал «Время и мы» (Тель-Авив), 1979, № 48, с. 5—41;
1980, № 49, с. 5—35; 1981, № 61, с. 165—243
Журналы в формате pdf:
1979, № 48 2 Мб ; 1980, № 49 1,8 Мб ; 1981, № 61 3,5 Мб
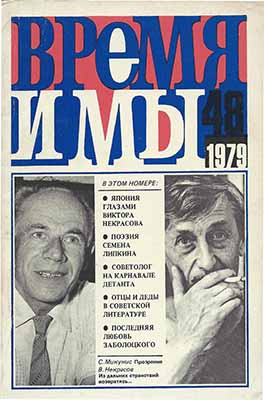
Обложка журнала «Время и мы»,
1979, № 48
|

Виктор Некрасов состоял членом
редакционной коллегии
журнала «Время и мы»
|

Начало записок,
которые впервые были
опубликованы в этом журнале
|
...Какой-то дворянин (а может быть и князь),
С приятелем своим гуляя в поле,
Рассказывал о том, где он бывал...
Крылов. Лжец
Дальше, как известно, дворянин этот или князь сообщает своему другу, что в Риме видал, мол, огурец величиною с дом. Чем басня кончается, известно нам с детства — рассказчик отказывается пройти через мост, который якобы проваливается, когда на него ступит нога лжеца.
К чему я все это? А к тому, что кое-что из того, что я видел и о чем собираюсь рассказать, может напомнить читателю историю с огурцом.
Так вот, кладу руку на Библию — только правду, одну правду, всю правду. И никаких мостов! Ходил, хожу и буду ходить по любому, ничего я не боюсь.
Но это так, присказка, приступим же к сказке.
* * *
О, свобода передвижения! Подобно Катону с его
Карфагеном, я готов каждую свою речь не только
кончать, но и начинать с этого восклицания!
В. Некрасов. По обе стороны стены
ЧАСТЬ 1
Эпиграф из самого себя! Подобной нескромности, пожалуй, не знала еще мировая литература. И все же рискую. Кажется, — Энгельс говорил, — что скромным надо быть в быту, в творчестве же, в политике не обязательно.
Именно об этом, об Энгельсе, скромности, о том, что начну новую свою вещь с цитаты из самого себя, и именно с этой цитаты, я думал, лежа на койке гонконгского узилища.
Простыня и наволочка на подушке были чистые, но почему-то не было одеяла, и лампочка под потолком была не больше 25 ватт. И окна не было, и нигде не мог найти выключателя. Лампочка погасла потом сама, очевидно, выключил тот самый вежливый, но неприветливый китаец в серой аккуратной униформе, который весь вечер, каждые полчаса, подходил ко мне и говорил, что надо идти спать.
Но спать мне не хотелось, а хотелось читать «Ветку сакуры», и только к двенадцати часам ночи я сдался и пошел в свою камеру.
И вот лежал и думал — при свете мне как-то не спится, — думал о свободе передвижения.
Ну, конечно, Гонконг город особый, они как огня боятся всякого рода иммигрантов и беженцев, отбиваются, как могут, от пытающихся высадиться вьетнамцев, но я-то не вьетнамец, убежища мне не надо, завтра я должен быть в Токио, но сегодня мне хотелось бы...
— Нет, нельзя...
— Но, простите, вы ведь Англия, кусок Англии, английская колония, а не самостоятельная республика или магараджат какой-нибудь, а в Англию я всегда езжу без визы...
— Нельзя.
— Завтра утром я должен лететь в Токио, задерживаться я не собираюсь, но обидно все же...
— Нельзя.
Молодой китаец был вежлив, но непреклонен и начисто лишен юмора. Моя апелляция к висевшему за его спиной плакату «Welcome to Hong-Kong» — «Добро пожаловать в Гонконг», — не вызвала у него даже намека на улыбку.
— Пройдите, пожалуйста, в эту комнату. Паспорт вы получите завтра.
— Я прошел в эту комнату и принялся за «Ветку сакуры».
Кроме меня, в небольшой, метров тридцать квадратных, комнате — два стола, две длинных скамейки, с десяток стульев и громадная бутыль с питьевой водой — было еще человек десять-двенадцать. Европейцев, кроме меня, никого. Одеты более или менее с иголочки, у одной семьи с полдюжины пудовых чемоданов. В углу миловидная, довольно привлекательная и загадочно молчащая девушка — на все вопросы отрицательно мотала головой, к принесенным блюдам не прикоснулась.
Все оживленно о чем-то спорили. Я читал «Ветку сакуры».
Мальчик-официант из ресторана «Мирамар» всем поочередно принес на подносе невкусный рисовый суп и нечто вроде отбивной все с тем же рисом.
Есть не хотелось, злился, но жевал, размазывая мокрый рис по тарелке с золотыми буквами «Мирамар».
Мирамар... Год тому назад, в это же почти время, в мае месяце, я бродил по пустынным, увешанным аркебузами и ветвистыми оленьими рогами залам замка Мирамар — резиденции эрцгерцога Максимилиана в Триесте. Все напоминало Воронцовский дворец в Алупке — та же гранитная готика, те же дорожки парка среди зарослей тамариска и дрока, тот же вросший в стены плющ и свисающие грозди глицинии, и кипарисы, и море, и жил бы себе спокойненько наследник австро-венгерского престола среди всей этой роскоши и красоты — нет, захотелось стать вдруг императором Мексики. И расстреляли его там, бедняжку. Восстали, поймали приставили к стенке, и почему-то Эдуарду Манэ захотелось запечатлеть этот момент — взвод, ружья, «Огонь!» А там, в Триесте, тишина, покой, мраморные лестницы, рога и абиссинские щиты, по стенам, в золотых рамах предки в доспехах и горностаевых мантиях...
Мирамар...
Тот на берегу Адриатики, а этот, откуда мальчик-китаец приносит мне остывшие котлеты, — где он? И кто там сейчас сидит? И почему я здесь, а не там? Нет, туда я не хочу — он, очевидно, третьеразрядный, этот «Мирамар», салфетки у мальчика-китайца не первой чистоты и мундирчик хотя и с галунами, но какой-то засаленный. Нет, я хочу в ресторан с крахмальными скатертями и орхидеями в бокалах или что-то очень злачное, гонконгское, с полумраком, и чтоб где-нибудь в задней комнате курили опиум. И чтоб окружали меня не безвизные аэродромные болтливые пассажиры, а за столиком со мной сидела б стройная, смуглая малабарка (моя мать, видавшая многое в жизни, говорила, что красивее их она не видела женщин) или восставший из гроба Брюс Ли...
А кто такой Брюс Ли?
Вы не знаете, кто такой Брюс Ли? Весь мир знает, а вы не знаете? Полуголый, бронзовый, весь сотканный из мускулов, с умными, живыми глазами, он глядит с плаката в комнате моего внука Вадима.
Король каратэ, суперстар кунг-фу, самого захватывающего вида борьбы-религии, борьбы-философии. Кумир всех мальчишек всего мира, от Рейкьявика до Огненной Земли. В Париже нет дня, чтобы где-нибудь не шел фильм с его участием. Красив, изящен, легок, быстр, молниеносен, его схватки блистательны, как поединки д'Артаньяна, грациозны, как вероники Эль-Кордобеса или Домингена, знаменитейших из живущих тореро. Кунг-фу, это борьба — удары, прыжки, атака физическая и психологическая, но это и танец. Я не видел Нижинского, но я видел Михаила Барышникова. Брюс Ли — Барышников каратэ. Слава его не уступит славе Рудольфо Валентино. Но тот был только красив (я смотрел сейчас посвященные пятидесятилетию со дня его смерти фильмы своего детства «Шейх», «Сын шейха» — красив и только, актер никакой), Брюс Ли же артистичен, в ролях своих (не будем анализировать их глубину) спокоен и сдержан. Станиславский оценил бы его.
Я вижу иронические улыбки. Брюс Ли и Константин Сергеевич, ха-ха! Так вот, не «ха-ха!» — даю голову на отсечение, великий реформатор театра приводил бы этого маленького, ловкого, живоглазого китайца как пример своим ученикам — его молниеносную реакцию, собранность, умение переключаться и, главное, чего так трудно другой раз добиться от актера, способность после дикого напряжения мгновенно расслабляться. Брюс Ли — это школа Станиславского, хотя, возможно, Тузенбаха или Соленого Константин Сергеевич ему не поручил бы.
Умер Брюс Ли совсем молодой, 32 лет, при загадочных обстоятельствах. За гробом шел весь Гонконг — его родной город. Похоронен же в Америке, в Сиэтле, откуда родом его жена.
Вот кто тот человек, с которым я хотел бы сидеть за одним столиком в гонконгском кабаке, именно с ним. Потому что не кто иной, как он, познакомил меня с Гонконгом. Преследуя кого-то по рекламно-сияющим улицам, лавируя между машинами, прыгая с джонки на джонку, чтоб не попасть в руки преследователей, а потом сбрасывая кого-то из них с крыши небоскреба в провалы улиц. Того самого Гонконга, который я видел час или два тому назад из-под крыла самолета. Лил тропический дождь, самолет кружил над городом, над какими-то островками и заливами, над этими самыми сгрудившимися небоскребами, потом долго рулил по необозримому бетонному полю — никаких дорожек — сплошное поле. А дальше — нельзя!
Но ведь вы Англия, часть Англии... Нельзя! Я лечу в Токио, не собираюсь... Нельзя!
Дожевал эту чертову кашу. Принесли компот. А пива нет? Есть, но только за деньги. Гонконгские доллары, на худой конец, американские. Франки не принимают. И банк уже закрыт. Черт!..
В Бангкоке было лучше.
В жарком, душном Бангкоке, где меня тоже не пустили в город. Там я мог то и дело подбегать к банковскому окошку, менять свои франки на ихние, таиландские баты с молодым королем в овальчике, и тут же, напротив, у стойки бара, покупать их же, таиландское, как ни странно, довольно приличное, пиво. Потом, от нечего делать — предстояло провести здесь всю ночь — угощал сначала какого-то белозубого индийского морячка, а когда он улетел, таможенников, одного за другим, потом всех вкупе. Кроме той мерзкой бабы в очках в транзитном зале, которая упорно не пускала меня в Гонконг — «Завтра прямо в Токио полетите». Мерзкая, очкастая сиамка — даже таможенники, подвыпив, говорили о ней «бэд ву-мен», плохая женщина.
Был еще тоненький, быстроногий мальчишечка, с которым мы бегали куда-то в подвалы искать мой чемодан (он нашелся, но в Гонконге опять потерялся и только через неделю прибыл в Токио, потеряв по дороге блок, по-парижски «картуш», сигарет «Голуаз»).
Ночь провел в закутке у, насколько я понял, старшего из таможенников, на клеенчатом диванчике. Утром разбудило радио, запело что-то таиландское. Таможенник уже сидел на своем высоком стульчике и что-то писал. Улыбнулся. Когда я вернулся из туалета — была очередь, все очень долго почему-то чистили зубы — оказалось, что в закутке меня уже ждет что-то овощное с рисом и бутылка пива. Принес мальчик. Денег не взял. Зовут его, как выяснилось, Виройн Помпонакаи — он написал это на кусочке картона — визитная карточка — и, смутившись, вручил мне.
Не успев допить свое пиво, скорей-скорей к шестому выходу. В «Боинге», уже внутри, выяснилось, что я лечу не в Токио, а все же в Гонконг. Как, почему? А черт его знает. В Гонконг, и все...
Внизу проплывали джонки и рисовые поля то ли Камбоджи, то ли Вьетнама, а я пытался вспомнить, о чем же мы вчера говорили с морячком и таможенниками. И на каком языке? Вроде как по-английски. Чудеса... Лет пятьдесят тому назад я, правда, брал уроки у одной очень милой и очень старой, поминутно засыпавшей англичанки и прочитал даже весь «Гранатовый домик» Оскара Уайльда... И все же, о чем же мы говорили? Кажется, о коммунизме. А может, о монархии. Я тыкал пальцем в овальчик с молодым королем и все допытывался, как его зовут. Они пожимали плечами: «Кинг...», и все. Только сейчас, заглянув в свой любимый «The Statesman's Year-Book», я узнал, что зовут его Бумидол Адульядеж и что вовсе он не молодой, ему 52 года. А в овальчике юный красавец. Впрочем, глядя на них, на всех этих вьетнамцев и сиамцев, никогда не поймешь, сколько им лет — двадцать, сорок, шестьдесят?
Расправился, наконец, с мирамарским ужином. Без орхидеи, без малабарки, без Брюса Ли. К двенадцати часам сморило. Засыпая, думал, что грех все-таки роптать. Вьетнамским беженцам на их утлых суденышках похуже. А тут все же бесплатно накормили, и простыни чистые, и эр-кондишен. И все-таки — в октябре минет пять лет — подам на французское гражданство. Не хочу виз. Не хочу...
(Через две недели, в английском консульстве, в Токио, изысканно-вежливый консул говорил мне: «Вы можете, конечно, заполнить анкеты, но ответ из Гонконга придет через шесть недель, в лучшем случае, через четыре». «Но ведь это ж ваша английская колония, почему она?..» «А вот такие теперь колонии», — улыбнулся консул).
Раненько утром другой уже, не вчерашний, молодой человек разбудил меня и сообщил, что в восемь тридцать будет самолет на Токио. Через полчаса он довел меня до самого трапа и вручил мне мой «Титр де вояж» — эмигрантский паспорт — и билет. Вручил, когда я переступил порог «Тристара», не раньше. Я почувствовал себя почти Буковским, разве что кандалов не было.
В Тайбэе, столице Тайваня или как его называют на Западе, Националистического Китая, сделали остановку. Бродил по внушительному, современных очертаний, аэровокзалу и размышлял о Китае, о неблаговидном, именуемом, вероятно, реалистическим, поступке Картера, променявшем друга на врага. Размышлениями этими пытался отвлечь себя от назойливого, с вечера мучившего меня, вопроса — как встретят меня в Токио? В кармане у меня было три адреса — двух друзей, из которых только одного я знал в лицо, и отеля «Сентрал-Кашима», телефонов же ни одного. А Токио, как известно, для иностранца город страшный, и жители его говорят почему-то только по-японски. Спасательный же круг, на который я особенно рассчитывал — супружескую пару из Женевы, которые вместе со мной (или, вернее, я с ними) летели в Токио, я потерял в Бангкоке. И все из-за этой мерзкой, очкастой таиландки. Ужасно захотелось ей отомстить. Вот приеду' в следующий раз, уже французским гражданином, и накапаю на нее губернатору.
Объявили посадку. Взмыли. Последний скачок. Еще два часа.
Море, море... Восточно-Китайское море. Пустынное... А обратно, домой, летели над пустыней Гоби — безбрежно и жутко. Потом Гималаи. Восточные отроги — Каракорум. Заходило солнце. Снежные вершины еще не спали во тьме ночной, готовились, розовели. А где-то в теснинах между ними поблескивали невидимые мне реки... Исламабад. Потом Карачи.
Я стал великим специалистом по аэродромам. Начиная с нашего Киевского, маленького, уютного, в Жулянах и кончая знаменитым токийским «Нарита», вызвавшим такую бурю протестов — местных жителей насильно переселили в другие места, с этого и началось. Из всех виденных мной особенно запомнился аэропорт Дубай (какой-то из эмиратов Персидского залива) — легко воздушный, очень современный, но с заметным, не назойливым, восточным акцентом. Чувствуется, как говорится, рука мастера нимейеровского масштаба.
Исламабад, он же Равалпинди, и Карачи запомнились только жарой, сонными продавцами ониксовых пепельниц и ваз и пакистанцами в белых, немыслимой ширины, штанах.
В Каире из самолета не выпустили, и впечатление осталось только от двух тщедушных солдатиков, в обмотках, в длинных черных шинелях, с допотопными, вероятно, еще тех времен, когда Черчилль воевал в Египте, винтовками в руках. Ну и, когда поднимались в воздух, пирамиды — три крохотных прыщика, бородавки среди желтых песков пустыни.
Но до всего этого, первой нашей остановкой из Токио, был Пекин. Да-да, целый час ходил я по китайской земле... Но я забежал вперед. Пекин оставим на закуску.
15 мая 1979 года в 11 часов 30 минут по токийскому времени стопятидесятиместный «Тристар» компании «Cathay Pacific» совершил посадку в «Нарита».
Я в Токио. В Японии. Путешествие закончено.
С чего ж начать? Такси? В гостиницу?
Навстречу мне шел улыбающийся молодой японец. В руках его был плакат с одним только словом: «Некрасов».
«Вас ждут внизу», — сказал он по-английски.
Сквозь сплошную, во всю стену стеклянную витрину я увидал в толпе встречающих моих женевских друзей. Они весело махали руками.
(Кстати, вскоре выяснилось, что отель «Сентрал-Кашима», до которого я собирался ехать на такси, вовсе не в Токио, а в городе Кашима, в 150 километрах севернее. В первый же день я прожег бы все мое состояние.)
Итак, Токио!
* * *
Почти весь апрель я провел в Англии. В Лондоне. Приехал просто так, без всякого дела, пошляться по Стренду, Челси, Гайд-парку, набережным Темзы. Собственно говоря, это и есть мое главное дело, моя профессия. Тут я специалист высокой квалификации.
Англия мне мила. Всем. Немыслимой своей изумрудной зеленостью, двухэтажными домами-квартирами с витой лесенкой внутри, пабами, особенно деревенскими, непереведшимися еще котелками и зонтиками (впрочем, зонтик всегда и везде, в любую погоду), своей сдержанностью, невозмутимостью и участливостью, каминами и лужайками, королевой, ни во что не вмешивающейся (у нее своих забот по горло: сестра, дочь, наследник, которого никак не женишь, а пора, уже тридцать лет), красными двухэтажными автобусами, в которых можно курить, и просторными, на вид архаичными, но такими юркими такси-остинами, наконец, даже погодой, которую принято поносить, но, пожалуй, именно дождям обязана Англия своей непостижимой, глаз оторвать нельзя, всегда свежей зеленью. Не пойму, почему в английском гербе нет зеленого цвета (только в гербе Ричмонда, как фон для тюдорской розы) и столько львов, а ни одного вяза, национального, увы, заболевшего и вымирающего дерева. Одним словом, мила мне Англия. Кроме всего, конечно, еще и веющим от нее каким-то покоем. (Скажи я это англичанину, в лучшем случае пожмет плечами и саркастически улыбнется.) Да, именно покоем. Житель континента (я не говорю уже о тех, кто по ту сторону берлинской стены) чувствует это особенно остро. И не только на каком-нибудь заросшем, полузаброшенном кладбище, прилепившемся к церкви ХIII века где-нибудь в Чипинг-Кемптден. (О, английские кладбища! Лежал бы и лежал.) Или в деревенском пабе с почтовыми рожками на стенах, освещаемых фонарями от кебов или фиакров прошлого века. Веет покоем даже от Трафальгар-сквер (вся эта детвора, ползающая по лапам и хвостам четырех львов у колонны Нельсона) или Пикадилли-циркус, где сотни джинсов и свитерочков и ни одного пьяного. Покой, покой! Сколько бы мне не говорили об инфляции, душащих страну забастовках и тред-юнионах, фактически правящих страной, покой...
Я люблю Англию. Хотел бы жить и умереть в Лондоне, если б не было, что там ни говори, — Парижа. Ну, может быть, не в самом Лондоне — все-таки почти восемь миллионов, — а где-нибудь потише, время еще есть, подыщем.
Но почему, собственно говоря, приземлившись в Токио, я заговорил вдруг об Англии? Не только потому, что люблю ее и был в ней как раз перед поездкой в Японию (в чемодане моем рядом с «Веткой сакуры» лежала еще «Британия, 60-е годы» Осипова, прекрасная книга). Я заговорил об Англии, потому что и она, и Япония — обе на островах — страны великих традиций. Но каких разных!
Англия...
Камины... Как нечто обогревающее — ноль. Как символ патриархальности, собирающей вокруг себя семью, друзей — все. Потрескивает, пламя лижет поленья, можно и помолчать, думы всякие лезут в голову. Дог тоже лежит и думает.
Цветочки вокруг дома. Нету сада, палисадничек. Нет палисадничка, подоконник. И почти круглый год — влажный климат. И как приятно раненько утром выйти, сорвать два-три покрытых еще росой тюльпана — таких свеженьких, таких крепеньких и поставить их на стол. Сразу веселей становится.
И сам дом. Главное в жизни англичанина. Служба, работа, биржа — все это для дома. Для этого самого камина, сверчков, альбома с марками, какой-нибудь маленькой столярной мастерской, коллекции трубок, табакерок, негритянских божков. Если б история Англии сложилась, не дай Бог, как-то иначе, воцарилась, допустим, советская власть, англичанин с достоинством перенес бы все тяготы, — отсутствие ростбифа, «Дейли телеграф», свободы передвижения, — но одного бы он не перенес — коммуналок. Он умер бы.
Мой дом — моя крепость! Не было еще на земном шаре писателя, который, начав писать об Англии, не привел бы это любимое изречение. Бот и я, боясь отстать от других, тоже привожу его. Но тут же, чтоб как-то отличиться, хочу провести параллель со страной, которую недавно покинул. Эмма Коржавин, человек остроумный и умеющий на кое-какие вещи смотреть трезво, получив, наконец, долгожданную отдельную квартиру, вздохнул и сказал: «Мой дом — моя крепость!», и тут же добавил: «Но нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики...»
Но это так, к слову.
Англичанин не любит английской кухни. Это тоже традиция. Пудинг пудингом, но поведет он вас в китайский, вьетнамский и с особой охотой в индийский ресторан. Но пивом будет угощать английским — тут он патриот.
Англичанин — вообще патриот. Он любит свою страну. Это не мешает ему, правда, жить годами где-нибудь в Ментоне или на берегу Женевского озера. Он любит свою королеву. Шляпки у нее, правда, не очень красивые, но сама она полна достоинства, она символ. Какие-то леваки от имени налогоплательщиков пытались обвинить ее, что она живет, мол, не по средствам, что этому самому налогоплательщику приходится содержать ее яхты и загородные поместья. Чепуха! Каждый англичанин платит из своего кармана на содержание королевских яхт по одному пенсу в год. Разорительно, что и говорить. Англичанин не просто любит свою страну, он УМЕЕТ ее любить, умеет взять и беречь все лучшее, что она ему дает. Природу, например. Приусадебные, говоря нашим языком, участочки или славящиеся на весь мир лондонские парки. Ну, а если не побояться и сказать нечто хорошее об английской аристократии, то, конечно, нет ничего более привлекательного, чем английское загородное поместье.
Одно из них, Кенвуд, почти в самом Лондоне, в районе Хемпстеда, увековеченном в свое время Констеблем. В самом, построенном архитектором Адамом, доме графа д'Айвиг, завещавшего его после своей смерти государству, сейчас музей, картинная галерея. Картины первоклассные — Рейнольде, Гейнсборо, Ремней, из голландцев Рембрандт, Вермеер, Франс Галс, есть два портрета Ван Дейка. Но не это поражает — лондонским музеям есть чем похвастаться — поражает и покоряет слияние самого по себе прекрасного ампирного интерьера дома с окружающим ландшафтом, природой. Сквозь громадные, от пола до потолка, окна ландшафт этот — лужайка, тенистый парк, вдали пруд — как бы вливается во внутрь дома, составляя с ним единое целое.
И, конечно же, на лужайке, ярко-зеленой, с желтыми нарциссами у самого дома, два-три одиноких вяза. Вообще, одиноко стоящие среди поля деревья — одна из примет английского пейзажа. Выросли они, конечно, по воле Божьей, но, проезжая по какой-нибудь проселочной дороге, никак не можешь отделаться от мысли, что все это придумано и скомпоновано все тем же Констеблем. (Судя по эскизам, он, хотя и делал свои пейзажи с натуры, переставлял деревья по собственному усмотрению, уравновешивая композицию.)
Я понимаю художников, которых привлекали поместья, подобные Кенвуду. Великий Тернер подолгу жил в имении лорда Эгремонта в Петуорте, милях в пятидесяти южнее Лондона, в Сассексе. Те же изумрудные лужайки, купы деревьев, гроты. Правда, оленей, стадами бродивших вдоль озера («Озеро. Заход солнца» Тернера) что-то сейчас не видно. А все остальное как было двести лет назад, в начале прошлого века, так и осталось.
И, глядя на всю эту красоту и покой, с грустью думаешь о том, как ни в чем не уступающий всему этому по красоте русский помещичий дом прекратил свое существование. Помещиков, естественно, прогнали, но дома-то их, дома...
Я был в одном из них. Недалеко от Малеевки, Старой Руссы. Сейчас там детский приют, уныло, серо, все заросло, бродят по дорожкам стайки таких же унылых, невеселых ребятишек в серых поношенных пальтишках. А как построен этот бывший барский дом, как выбрано место! Львы у въезда, тополевая аллея, круглая клумба перед колоннадой дома, когда-то, вероятно, желто-белого, ампирного, а сейчас грязно-серого цвета, с облупленной штукатуркой. А по ту сторону дома терраса, обрыв, заросший чем-то вроде малинника, и дали неоглядные, вьется внизу речка и синяя полоска леса вдали. И звон. Вечерний звон, вечерний звон... Сейчас его нет, надрывается где-то радио — «Труженики полей Кубани, перевыполним план сдачи государству...»
Англичане все, как один, жалуются на то, как изменилось все за последние годы. И не к лучшему, а к худшему. Правда, теперь можно за три часа долететь на «Конкорде» до Нью-Йорка, а при королеве Виктории и за неделю нелегко было добраться, но стоит ли сравнивать, сравнения всегда дело рискованное. Тогда было величие, империя, колонии, престиж. Сейчас все распалось, члены Содружества воюют друг с другом (Индия и Пакистан), а когда бастуют водители грузовиков, выстраиваются длиннющие очереди за хлебом и сахаром. И нет таких мудрых стариков с вечной сигарой во рту, как Черчилль, а правит всем какая-то очень, правда, активная, но все же дама, которая приходит в восторг от того, что московские газеты окрестили ее «железной леди»...
И все же грех англичанам жаловаться. Ей-богу, грех. Никакого никогда штурма Букингэмского дворца не будет (говорю фигурально, т.к. штурм Зимнего дворца, скорее всего, на совести Эйзенштейна и его «Октября»), коммунистов в Британии кот наплакал, «Морнинг стар», утреннюю эту звезду, никто не читает, а если говорить о рабочих, а не аристократах, (им таки хуже, чем при Виктории), то, честное слово, я вовсе не прочь зарабатывать столько же, сколько простой лондонский докер. И клянусь, не буду бастовать и требовать прибавки в десять, а то и в двадцать процентов.
Прочитав или выслушав все вышеизложенное, тот самый англичанин, пожавший плечами и саркастически улыбнувшийся после слова «покой», закажет еще по кружке пива и скажет:
— Все, что вы сказали, очень интересно и где-то ласкает мой слух, но не кажется ли вам, что для того, чтоб иметь определенное суждение об Англии и англичанах, месяца, который вы провели здесь, вряд ли достаточно. Я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь. И не месяц, а три недели. И до этого еще десять дней, и еще как-то месяц, тогда до Шотландии даже добрался... Мало, мало, конечно, мало. Да я и не сужу, не имею права судить — я только о впечатлении, о том, что увидел, почувствовал, я — человек из другого мира, попав в страну, полюбившуюся мне с первого взгляда. Проживи я в Англии, в каком-нибудь Кембридже, как Володя Буковский, с годик-два, возможно, и я начал бы ворчать (Володя поваркивает), я же за эти две недели сумел осудить только одно — дороговизну лондонского транспорта. Креста на них нет — за недельный постоянный билет (метро + автобус, в Париже называется «карт-оранж») лупят десять фунтов, т.е. сто франков, а у нас месячный — семьдесят, и то мы негодуем — когда я приехал, был сорок. Зато в Лондоне музеи бесплатные, а в Париже, куда ни сунься, пять, десять, а то и пятнадцать франков.
А в общем-то, подводя какой-то итог, скажу прямо — знай я язык и ни на минуту не разлюбив Францию и Париж, переехал бы в Англию. Покой, покой... В нашем возрасте это имеет какое-то значение.
На этом пока поставим точку.
Итак, нелегкая занесла меня в Японию.
* * *
Нелегкая — это некое японское издательство, напечатавшее в свое время мою «Киру Георгиевну», гонорар тогда не заплатившее и предложившее сейчас, во искупление своей вины, оплатить мне самолет Париж — Токио — Париж. Я тут же, не раздумывая, ухватился за это предложение, не совсем, правда, понимая, на какие шиши я буду жить в самой Японии, — Токио самый дорогой в мире город, — но все, в конце концов, обошлось. И ел, и пил (в основном, саке — 16°), и жил в лучших гостиницах, и ездил в сверх-ультра-супер-экспрессах, и даже подарки домой привез — жена принимает теперь гостей не иначе, как в черном шелковом кимоно редчайшей красоты, и все это благодаря тому, что существуют на свете друзья. Не имей, как говорится, сто рублей, а имей, ну, хотя бы парочку таких друзей, как мои, из Женевы. Междугородние, а там паче международные телефонные разговоры в мире наживы стоят дорого, тем не менее мои друзья — назовем их господин Н. и госпожа Н. — раза три звонили из Токио в Бангкок и столько же в Гонконг в поисках потерявшегося в таможенных джунглях писателя. К отелям и экспрессам они тоже имели кое-какое отношение.
Пробыл я в Японии — если выкинуть дорогу — злосчастные Бангкоки и Гонконги и 36 часов лету назад через Китай, Пакистан, Аравию и Египет — восемнадцать дней. И в общем-то обалдел.
Ну, как не обалдеть... Советскому человеку, очутившемуся в Европе, кажется, что он попал на другую планету. Для европейца именно Япония другая планета, для меня же третья.
Чтоб понять, разгадать эту загадочную страну, нужно в ней прожить не год, не два, может даже и десяти будет мало. Куда там какая-то Англия. Поэтому с первых же строк предупреждаю — ни в чем я не разобрался, ничего не понял и все нижеизложенное не что иное, как импрессионистические наброски, скольжение по поверхности, никакой глубины.
Начну свой рассказ с одной книги, той самой, которая скрасила мне тоскливые часы моего гонконгского узничества, Да, та самая «Ветка сакуры». Автор ее «публицист правдистской выучки», как назвал его один из самых прожженных «правдистов» Юрий Жуков в своем послесловии к книге — Всеволод Владимирович Овчинников.
Читаешь и диву даешься, как мог такой вот «публицист правдистской выучки» написать ТАКУЮ книгу. Семи пядей во лбу надо быть. Шесть из них — ум, начитанность, общая культура, прекрасное знание материала и языка, тонкий вкус и любовь к описываемой стране — вещи вполне объяснимые — учился, много читал, жил в Японии, полюбил ее — но вот седьмая пядь — как удалось такую книжку опубликовать — для меня загадка.
«Советская литература и эквилибристика» — так озаглавил я лекцию, которую читал токийским студентам, а до этого и множеству европейских. Под этим иронически-горьким определением подразумевается та нелегкая школа циркового искусства, которую нужно закончить с отметкой 5 с плюсом, чтоб научиться писать, а потом напечатать то, что в нашей стране труднее всего — ПРАВДУ. Не всю, конечно, в советских условиях это невозможно, но хотя бы ТОЛЬКО правду. Эквилибристика, жонглирование, хождение по проволоке (а то и по лезвию ножа), искусство фокусника, дрессировщика, даже клоунада — вот дисциплины, которые надо знать назубок. Искусство «правдиста», не того, а в истинном значении придуманного мною только что слова, это искусство подтекста, намека, недосказанности, писания (а значит, и чтения) между строк, умение бороться (вот где пригодилось бы некое литературное кунг-фу) и отстаивать нужные тебе высоты, сдавая в кровавых боях сопки пониже. И, наконец, — это уже не цирк — вовремя протянутая тебе рука, подставленное плечо умного редактора-друга. Это, пожалуй, одно из главных подспорий. Но у Овчинникова нет ведь ни Аси Берзер, ни Твардовского, вместо них Юрий Жуков и Виктор Григорьевич Афанасьев, главный редактор «Правды». Как же ему все-таки удалось?
Попадающиеся мне иногда на глаза газетные корреспонденции Овчинникова (сейчас он в Лондоне), скрывать не буду, особого восторга у меня не вызывают. Корреспондент есть корреспондент, что поделаешь, да еще «Правды», — но вот книга его была верным и очень нужным спутником по Японии. Умная, серьезная, доброжелательная, хорошо написанная книга. И что особенно приятно — переведенная на японский язык, она пользуется успехом у японцев. Из десяти или двенадцати человек, с которыми я говорил о ней — а я где мог, совался со своей похвалой, вслух читал отрывки своим женевским друзьям за утренним кофе, — только один отозвался о ней скептически, остальные в один голос — хорошая книга!
Из Хиросимы (есть у Овчинникова книга и о Хиросиме) я позволил себе послать ему благодарственную открытку. На адрес «Правды». Дошла ли? Разгадали ли мою закорючку внизу? Так вот, заявляю во всеуслышание — конкурировать с Овчинниковым не буду — кишка тонка — ограничусь предлагаемыми "мною поверхностными, очень субъективными впечатлениями, импрессионистическими набросками. В этом есть своя прелесть. Для меня, во всяком случае.
* * *
99 % моих друзей, которым я сообщил о своей поездке в Японию, обязательно острили: «Смотри, не женись там на гейше» или «Привези с собой самую хорошенькую». Только жена, как ни странно, ничего о них не сказала, просто заявила, чтоб без кимоно домой не возвращался, и все. Внук Вадик напомнил, что я говорил ему когда-то о маленьком МИГ-27, том самом, который угнал советский летчик Беленко, стоит, мол, всего один доллар. Витька-сын — просто вскользь сказал, что японские фотоаппараты ни в коем случае нельзя покупать в Японии, только в Гонконге — там они раза в два, а то и в три дешевле. Первые две просьбы я выполнил, третью, увы, не смог.
Итак, 99 % о гейшах? И вообще, как выяснилось, познания о Стране Восходящего солнца у среднего советского интеллигента сводятся, примерно, к следующему набору: харакири, кимоно, камикадзе, Фудзияма, самураи, Цусима, Пирл-Харбор и Хиросима. Кто необразованнее, знает еще кое-что об икебана — искусстве составления букетов — и художнике Хо-кусай. Я отношусь к этой последней категории. И, как старый железнодорожник, знал еще о сосуществовании самого быстрого в мире поезда «Шинканзен» — 250 км/час! — Токио — Осака. (Сейчас он уже несется под проливом Калемон до города Фукуока на острове Кюсю.) Ни одной японской книжки я не читал. В кино видел два-три фильма — «Голый остров», что-то самурайское с Тосиро Мифунэ и «Японию в войнах» — интереснейший документальный фильм, совершенно непонятно почему у нас показывавшийся, — и японцы, и американцы весьма героически там гибнут... Кое-что знал я еще в силу бывшей своей профессии — о Кендзо Танге, прославленном авторе олимпийского комплекса в Токио. Вот и весь багаж, с которым я ехал. Не густо.
Что же такое Япония? Нет, вопрос для меня слишком трудный. Скажем так — что удалось мне увидеть и уловить там за три без малого недели?
Помню, меня когда-то возмутила беседа с Давидом Ойстрахом, только что вернувшимся из концертного турне по Японии. «Что вас больше всего поразило там?» — спросил его корреспондент. «Контрасты, — ответил Ойстрах, — Токио — город контрастов. Сверхмодерные небоскребы, а рядом лачуги»... «Ну и ну, — подумал я, — то ли Москвы ты не видел?»
Теперь понял — виноват я перед покойником — куда нашей Москве по контрастам до Токио, ошеломляюще нелепого, бестолкового, я бы сказал, в чем-то даже пугающего города, самого большого в мире — двенадцать миллионов жителей, а с вросшей в него Иокогамой и все пятнадцать. Какого-либо принципа застройки, общего плана и в помине нет, хаос. Купил участок, строй что хочешь, хоть небоскреб, хоть халупу. Регламента, строительных ограничений — никаких. Архитектурного лица — нет. Разглядываю свои фотографии, и разобраться, где Токио, где Осака, где Нагоя, невозможно. Небоскребы, рекламы... Рекламы, небоскребы. И все это в сплошном море чего-то низкорослого, одноэтажного, скученного и, не боюсь этого сказать, некрасивого. И это в стране, где красота в такой чести.
Названий улиц нет. Номера домов не по порядку — шестой, восьмой, десятый — а в зависимости от того, когда дом появился на свет. Рядом с номером четыре, построенным сразу после войны (американская авиация крепко обработала Токио), небоскреб под номером 86 — возведен в прошлом году. Европеец в тупике — как найти нужный дом? Токийцы как-то привыкли к своей неразберихе, но когда я попросил своего нового друга Торо Кавасаки отвезти меня к автобусному вокзалу Токио-Нерита, он взял пудовый справочник и на полчаса в него углубился.
— И вы тоже, значит?
— Тоже.
— Без справочника ни шагу?
— И со справочником тоже.
— Как же вы ориентируетесь?
— По телефону.
— ?
— Звоню и спрашиваю: как до вас добраться? Мне отвечают: сядешь в метро, вылезешь на станции такой-то, от нее сразу пойдешь налево, свернешь на четвертую улицу направо, по ней дойдешь до большого стеклянного дома с рекламой «Сони», там опять повернешь направо и метров через двести-триста, сразу за буддийским храмом, увидишь заправочную станцию «Шелл». Там рядом телефон-автомат. Позвони мне, и я выйду тебя встречу...
Вот так-то...
В центре, спасибо генералу Макартуру, несколько десятков улиц получили названия, и в центральных станциях метро висят таблички по-английски, но это только в центре. Чуть дальше от него сплошные иероглифы.
Я просил моих друзей разрешить мне одному побродить по Токио — дайте мне только план метро, к шести я вернусь. Они ужаснулись. Что вы, в своем уме? Таксисты и то часами ищут. Не то что к шести, до утра не доберетесь... Так и не пустили.
Архитектурного лица, повторяю, у Токио нет. Разве что пересекающие весь город, вьющиеся, переплетающиеся на разных уровнях, где бетонные, где железные, ленты автострад, электричек, монорельсовых дорог. Каких-либо законченных ансамблей не ищите. Глаз отдыхает на двух, трех десятках уникальных зданий или храмов да на зелени императорского парка. Чтоб похвастать чем-то современным, приводят на олимпийский стадион или к церкви Сент-Мери того же Кендзо Танге — взлетающая к небу, сияющая металлом на солнце кривая.
* * *
Храмы — а они везде красивы — как-то теряются в общей сумятице. Запомнился один из самых больших и новых — Шакаден, храм Будды Шакья-Муни. Да, да, того самого «Шжья-Муни, ты не прав!..», читавшегося в мое время под елочкой всеми мальчиками и девочками с неменьшим успехом, чем горьковскиЙ Данко и «Белое покрывало или святая ложь» — обязательный рождественский набор.
Шакадон — это широченная, полированного гранита, лестница, ведущая в нечто необъятное, таинственное, погруженное в полумрак. Тысячи молящихся с опущенными головами. Откуда-то льется музыка. Тихая, мелодичная. Постепенно становится светлей, в музыке появляется напряжение, медленно раскрываются золотые врата и появляется озаренный лучами невидимых прожекторов, сам Шакья-Муни. Пять тысяч человек склоняются еще ниже.
Что это за религия, что это за секта, носящая название Реюкаи, ни один из знакомых наших японцев объяснить не смог. И самого храма никто не видел — это я им открыл его. У токийцев нет времени изучать достопримечательности своего города — работают они много, без дураков, к тому же большинство живет за городом, часа два уходит на транспорт.
Реюкаи — учение, какая-то ветвь буддизма, объединяющая около трех миллионов японцев, рассеянных по всему миру. Основал ее Ушедший Учитель (Late Teacher), некий Какута-ро Кубо в 1919 году. После его смерти возглавил Реюкаи Кими Котами. Скульптуры обоих этих лейттичеров (как это по-японски, не знаю, при входе мне вручили проспект на английском языке) стоят справа и слева от алтаря — в пиджаках, галстуках, вполне современный вид.
В суть учения я не вникал (при случае, объяснит мне Пятигорский — главный буддист нашей эмиграции), но думаю, что ничего дурного эта религия, в себе не таит, а тот один доллар, который, ежемесячно платит как членский взнос каждый «реюкаист», дал возможность отгрохать такой вот храм из бразильского и шведского гранита, заказав проект архитектору с именем — Кениши Ивасаки. Из окна моего отеля видна эмблема Реюкаи, венчающая храм, — два вертикально, параллельно стоящих круга — нечто спокойное и глубокомысленное. Глухая стена советского посольства, находящегося в двух шагах от него и охраняемого шестью полицейскими, слава Богу, в мое поле зрения не попадала.
Храмов в Японии много. Не счесть. Больших, средних, маленьких, совсем малюсеньких, прилепившихся где-нибудь между двумя американизированными офисами. Буддистские и синтоистские. В Японии две основных религии — выражаясь общо, культ смерти и культ жизни. Японцы поклоняются богам и той, и той религии. Богов много — добрых и недобрых, чтоб не сказать злых. Всех и не перечислишь.
Возвращаясь после паломничества в храм-монастырь Котохира-Шрин на острове Ши-коку, я купил себе на память очень симпатичного божка, бородой и взглядом напоминавшего Андрея Синявского. Может, поэтому я его и купил, высоколобого, с посохом в руке. Вернувшись домой, я сразу бросился к своему справочнику (Овчинникову) — и, насколько я понял, выбрал я бога долголетия — Фуку-року-дзю. «Его неразлучные спутники — журавль, олень и черепаха. Не в пример богу мудрости (тот ко всему еще и любитель выпивки и женщин), этот отличается тихим нравом, любит играть в шахматы и считает превеликой добродетелью умение зрителей молча следить за чужой партией. Таких людей встречается, впрочем, так же мало, как достойных бессмертия, которое он может даровать. В силу личного пристрастия, бог долголетия опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров, садовников — людей труда тихого, имеющего отношение ко времени настоящему, прошедшему или будущему».
По-моему, я выбрал удачного бога — по натуре я тоже человек тихий, в шахматы, правда, не играю, но антикварные лавочки приводят меня в трепет (ах, были б деньги...), и в душе я садовод, растил в Киеве на балконе анютины глазки и вывезенную из Коктебеля вьющуюся, распускающуюся к вечеру, небесно-голубую ипомею... А вот бог мудрости — Дзю-тодзин — мне далек. Покровитель философов, судей, учителей, изобретателей и журналистов, он, оказывается, любитель «своих ста грамм» — зачем мне это?
Я упомянул храм Котохира-Шрин. Я видел много храмов, все они как-то смешались, перепутались в голове, этот же не запомнить нельзя — к нему ведут 1368 ступеней. Утомительный подъем компенсируется открывающимся сверху видом такой дивной красоты, и сам путь от святилища до святилища так разнообразен, и каждый из храмов так каждый по-своему красив, и все это среди таких могучих, древних, тебе неведомых деревьев, и так все это не громоздко, изящно, и в то же время величественно, что о ступенях просто забываешь.
Один из основополагающих принципов японской культовой архитектуры — это слияние ее с природой (как в Англии поместье Кенвуд). Фон, среда, окружающая храм, это парк, иногда еще и озеро, одно врастает, вписывается в другое, одно немыслимо без другого. Но Котохира-Шрин — это не только парк, незаметно переходящий в лес, но и сама гора, на которой он расположен, и облака, и небо, и окрестный пейзаж, бескрайний горизонт. И тут же, в одном из храмов, свой собственный микропарк — задумчивый прудок, горбатый мостик, водяные лилии, затейливо изогнутые сосенки и совсем наша, русская тоненькая березка. А внутри храма стены, нет, не стены, а что-то шелковое, и на нем тигры, а там аисты, там — горы, речка, водопад, опять же горбатый мостик — так лаконично, с таким вкусом...
Вкус — вот, может быть, главное, что поражает и покоряет в японцах, в Японии. Тонкий, изысканный, благородный. И это во всем. Да, во всем — не боюсь столь категорического заявления. Не знаю, как и почему, но чувство цвета, пропорции, композиции, равновесия, ритма, одним словом, чувство прекрасного, свойственно почти каждому японцу и, думаю, прививается ему еще с детства.
Японские жилища, архитектура, сады и парки, культовое или праздничное одеяние, оружие, цветоводство, все виды прикладного искусства, полиграфия (одни иероглифы чего стоят!), наконец, даже современный дизайн — все это искусство высочайшего ранга и безукоризнейшего вкуса. Ну, а Токио, Осака, Нагоя? Города? Безликие, рекламно-американизированные (реклам больше, чем в Нью-Йорке!), эклектичные, такие не японские, я бы сказал даже, по сути своей антияпонские? Парадокс? Если хотите — да, но как мне пытались объяснить, это отрицание одним другого, более или менее мирное соседство противоположностей, тоже японская черта. Как и для англичанина, дом его — это храм, где он владыка и божество. За порогом этого дома — чужое, не его. Там он не властен. Нечто подобное можно наблюдать и в повседневной жизни (если я этого не обнаружил, то люди, прожившие долго в Японии, утверждают, что это так) — подчеркнуто-повышенная, изощренная (а для нас даже карикатурная) вежливость с друзьями и знакомыми и полное безразличие, даже грубость, с посторонними. Возможно, не видел, но думаю, что знатоки японского политеса и грубости никогда не ездили в московском троллейбусе и не покупали водки в «Гастрономе» за 10-15 минут до того ненавистного всем мужчинам часа, когда ее перестают продавать.
Но вернемся к красоте.
Начну с кимоно.
Не могу без улыбки не вспомнить забавный рассказ моего друга Лели Рабиновича, как львовский портной шил его жене то ли пальто, то ли что-то другое, на портновском языке называвшееся «кимоно» (с ударением на «и»). Он раз двадцать примерял, перешивал, опять примерял, а под конец печально развел руками: «Вы знаете, что такое кимоно? Или получается, или не получается. Так у нас НЕ получилось» (с ударением на «не»).
А вот у японок получается! Я видел сотни, тысячи кимоно — и свадебные, и повседневные, прямо иа улице — и не видел ни одного некрасивого. Ни одного! Нежнейшей раскраски или, наоборот, вызывающе-яркие, черные, белые, с цветами, листьями, аистами, пейзажами, шитые золотом, серебром — и каждое мне казалось красивее предыдущего. А как они красят женщину, как японки умеют их носить. Скажу по секрету — длиной ног японки особенно похвастаться не могут — кимоно же, с его высоко расположенным поясом и особым своим покроем, скрадывает этот недостаток — японка в кимоно стройна и элегантна, она просто красива.
Вообше, оказалось, что японцы красивый народ. Как-то не замечал я этого раньше, сталкиваясь с ними то на Монмартре, — летом он буквально ими оккупирован, — то в Лувре, то, как это было со мной два года тому назад, в Афинах, на Акрополе — из-за тысячи их мокрых, потных спин немыслимо было разглядеть Парфенон. Я их тогда возненавидел. И все с фотоаппаратами, и какими, с телеобъективами длиною чуть ли не в метр. И все снимаются. На фоне. Сторож гонит, а они прут. Лавиной. Вероятно, от злости я не разглядывал их лица, но красивых не припомню.
Японцы красивый народ. Невысокие, ладно скроенные, с мужественными лицами, (киношные самураи просто красавцы), и в косоглазии их какая-то привлекательность. Женщины, молодые, да еще если в кимоно, глаз не оторвешь. Фарфоровые статуэтки. И вовсе не желтые — желтая раса, желтая опасность! — очень даже розовенькие, а если гейша, то белее белого (грим, правда). А дети! Таких очаровательных, милых, хитроглазых, лукавых я нигде не видел. И запружена ими вся Япония. Куда ни кинь глазом, они везде — в музеях, парках, на улицах, в одинаковых белых, желтых, красных шапочках. То выгружаются, то влезают в автобусы. Перебегают цепочкой улицу, впереди руководитель с флажком. Заполняют все пригородные поезда. Мне объяснили, что сейчас каникулы. Но, простите, во Франции тоже бывают каникулы, а детей нет. Где они?
Когда в Хиросиме мы подъехали к парку Мира, я сначала даже не понял — что это, массовая сидячая демонстрация, протест против чего-то? Вся примыкающая к парку площадь, да и сам парк, заполнены были детьми. От края до края, конца не видно. И все они рисовали, ла коленях и вокруг альбомчики, краски, цветные карандаши. В парке зарисовывали памятники и единственно сохранившуюся в этом совсем новом городе руину какого-то офиса на противоположном берегу реки, на площади же детишкам терпеливо позировали... пожарные. В касках, скафандрах, с брандспойтами в руках.
Не знаю, каникулы это или не каникулы, но у меня твердое убеждение, что из 112 миллионов японцев, как минимум, восемьдесят — это их дети.
* * *
Любя Баха, можно ли наслаждаться Армстронгом? Микеланджело и Цадкин? Чехов и Аверченко? Парфенон и капелла Роншан Ле Корбюзье? Исключает ли одно другое?
Мне всегда казалось, что красивее английского парка, естественного, свободного, ничего не существует. (Версальско-петергофская ранжирность мне не очень мила, разве что у А. Бенуа.) А вот попадая в японский сад, особенно если он невелик, не сразу скажешь, кому присуждать первую премию.
Есть в Киото домик. Шизен-до, что значит приют отшельника, точнее, поэта-отшельника. Соорудил и жил в нем в XVIII веке некий Иозан Ишикава. В прошлом самурай, участник многих битв, в 58 лет он бросил военную службу — сменил меч на орало, — и основал в этом самом Шизен-до школу классической китайской поэзии. Прожие всю жизнь холостяком, 89-ти лет он умер. Дом остался.
Он невелик, удивительно пропорционален, по-японски пуст, только портреты древних китайских поэтов по стенам. Но главное не дом, главное — сад. Это — песок, камни, бамбук, подстриженные кустарники в виде шаров, — иногда они цветут чем-то розовым и белым, — пруд с кувшинками и ирисами на берегу и разные деревья, из которых узнал я только плакучую иву. Но песок это не просто песок, а камни не просто камни, все это некая композиция, продуманная в каждой мелочи. И пруд, и кусты, и ива тоже в нее входят. Думаю, что лучшего места, чтоб читать, а то и писать, стихи, на земном шаре нет. Бывший самурай, ставший поэтом, понял это. И создал. Маленький парк, и дом, и крохотную комнату на втором этаже — по-английски moon-viewing room — комната для созерцания луны — японцы любят смотреть на луну, хотя в гербе у них не луна, а солнце. Луна, полумесяц у турок, арабов, но есть ли у них специальная комната для любования луной, не знаю, не думаю.
Говоря об этом доме, я сказал «по-японски пуст». В противоположность многим, я люблю, чтоб стены в моей комнате были заполнены. Картинами, фотографиями, рисунками, какими-то слепками. Как у Максимилиана Волошина в Коктебеле, как у Чехова в его ялтинском доме. Там, правда, не только фотографии, там и Левитан, но вот у Толстого над его рабочим столом довольно средняя фотография Сикстинской Мадонны.
У меня, в подражание любимым писателям, тоже все стены завешены. На всяких полочках, этажерках, книжных стеллажах полно сувениров, дорогих сердцу мелочей, безделушек. Наполеоновские гренадеры с развевающимися знаменами, мой первый в жизни солдатик — швейцарский, два советских офицера, руки по швам (они несут вахту у марочного блока в 50 копеек с портретом Леонида Ильича при всех регалиях, правда, без ленты какого-то там перуанского ордена — была такая фотография в «Правде» — стоит троица, он, Косыгин и Громыко, все в лентах...), широкотрубый паровозик с вагончиком Вирджинской железной дороги, кораблики с надутыми парусами, две пушки — английская и испанская, три советских танка с красными звездами, ведерочко с двумя бутылками шампанского, подарок незабвенного нашего Севы Ведина, кусочек лавы из сопки Ключевской, камешек, поднятый со ступеньки рабочего домика Кнута Гамсуна, Георгиевский крест, купленный Витькой за 100 франков на Пале-Рояль и преподнесенный мне ко дню рождения, и еще один крест, сделанный Лелей Рабиновичем из подставки для вилок ялтинского Дома творчества с надписью на ленте: «За успехи и кое-какое поведение», и еще, и еще, и еще, всего и не перечислишь. Ставить, вешать уже некуда.
Японский дом — полная противоположность. Он пуст. В нем нет ничего. Пол — циновки-татами, потолок, бумажные стены, в нише прекрасными иероглифами на свитке написано что-то непонятное и обязательная ваза с цветами — икебана, Все. Больше ничего. Красиво. Очень даже. И все же...
Интерьер — это душа человека. По нему можно судить, что из себя представляет хозяин дома. Что он любит, чем интересуется, что хочет видеть перед своими глазами, есть ли у него вкус, какие книги читает. Это жизнь, быт и в то же время искусство, архитектура, неотъемлемая ее часть.
Библиотека архитектора Адама в Кенвуде приводится во всех трудах по архитектуре как пример английского классицизма. Она замечательна. И все же — нет, не думайте, что во мне начинает бушевать шовинизм — одна из прекраснейших вершин искусства интерьера — русский помещичий дом, дворянская усадьба.
Я долго колебался в одном из парижских книжных магазинов, глядя на книгу в синем переплете, изданную два года тому назад в Ленинграде. Лез в карман за чековой книжкой (да-да, вот что мы носим в кармане!), клал ее обратно, опять вынимал. Кончилось тем, что выписал-таки чек и помчался домой с заветной книгой под мышкой.
Называется она «Убранство русского жилого интерьера XIX века». Автор А. Кучумов. Без зазрения совести утверждаю — нет ничего более красивого и благородного. Я говорю о начале века, о русском ампире.
Был когда-то в Москве, на Собачьей площадке, музей «Дом 40-х годов». Нет сейчас ни Собачьей площадки — уступила место «вставной челюсти Москвы» Калининскому проспекту, — нет и музея, его «раскулачили» задолго еще до войны — нечего смотреть, как буржуи жили, слюнки пускать. Были в двадцатых годах, я еще застал, комнаты Александра III в его Ливадийском дворце, Николая II в Зимнем. Нет и этого, мебель и утварь растаскало начальство. До 30-х годов сохранились еще музеи-усадьбы Подмосковья — в Никольско-Хрюкине, Покровском-Стрешневе, Ольгове. Нету! Постарались и немцы — в Гатчине, Царском Селе.
Но вот, нашлись сейчас люди — не перевелись еще, — для которых прошлое не только угнетение и паразитизм, а и нечто другое. На третьем этаже Павловского дворца появился музей, которому и посвящена книга. И по вечерам, в одиночестве (Париж пуст, все уехали на юг, моя семья тоже, купается, загорает...), под звуки ставшего почему-то сейчас модным Вивальди или совсем немодного Сибелиуса (был я зимой в Финляндии, постоял молча у так похожего на его музыку памятника) или просто-напросто, да простят меня снобы, слушая Пятую симфонию Чайковского, я, не торопясь, листаю эту книгу, из комнаты в комнату, маленькими глотками, как пьют выдержанное в каких-нибудь массандровских подвалах вино...
Кабинет молодого человека З0-х годов XIX столетия...
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром...
А над кроватью портрет в золоченой раме этого самого молодого человека — Павла Дмитриевича Дурново. А над диваном — папаши, петербургского предводителя дворянства, в парике, красном мундире и Мальтийским крестом на груди.
Был и у нас когда-то, до того, как немцы сожгли, такой же павловский диванчик и два кресла, но разве я обращал на них внимание — идеалом были гнутые алюминиевые трубки из западных архитектурных журналов — иногда нам разрешалось все же в институте их просматривать.
Завидую Павлу Дмитриевичу. Даже сейчас. Хочу такое же бюро, как у него — из красного дерева, тысяча ящиков и ящичков, один даже потайной, выдвигающиеся и откидывающиеся доски и дощечки, бронзовые канделябры, малахитовые пресс-папье и пепельницы, над бюро миниатюры — офицеры какого-то лейб-гвардии полка, красивые, молодые, все в аксельбантах... Хочу такой же стол-конторку, который стоит у окна, для занятий стоя и просмотров альбомов-увражей. И раздвижную конторку тоже хочу, чтоб писать письма, не подымаясь с постели. И чубук хочу.
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале...
Кабинет молодого человека... Спальня молодой девушки. Туалетная. Будуар. Гостиная. Столовая. Портретная. Кругом портреты — дедушки, бабушки, какие-то вельможи, один важнее другого, а ты сидишь у камина в кресле с высокой мягкой спинкой, попыхиваешь трубкой, дремлешь. И снится тебе...
Нет, ничего мне не снится. Сижу в кресле, другом, но тоже удобном, и пишу. Пишу об этих самых будуарах и портретных, пишу и знаю, что никогда мне их не увидеть. Версали, Ми-рамары, замки Луары, домики японских поэтов-отшельников, кенвудские поместья — все это мне доступно, а Павловский дворец не видать мне никогда. Посторонним вход воспрещен...
Спускаюсь вниз за почтой. Открытка от Наоми, из Нагасаки. Гостит у сестры. Пишет, что собирается в августе с мужем и матерью в Советский Союз. Я у них прожил два дня, в их небольшом, но таком уютном домике на окраине Токио, в районе, название которого я никак не мог запомнить — Оизумигакуен-хо, Нарима-ку, Наоми и Торо Кавасаки. («Называйте меня просто Толя», а у самого получается с трудом, с буквой «л» у японцев нелады.) Оба русисты, прекрасно говорят по-русски — симпатичнейшая пара.
Жил я и в другом японском доме. В Иокогаме. У сотрудника одной из крупных судостроительных компаний, Катсукаро Китазава. Как и в том, токийском, доме, в этом тоже заметный налет европейскости (Китазава долго жил в Норвегии — узнал я знакомых троллей на полке), но спать меня уложили на полу, в самой что ни на есть японской комнате — четыре стены, одна в сад, раздвижная — иероглифы, в вазе икебана.
Ели мы в столовой, за столом, они палочками, мне же, видя мою беспомощность, выдавали вилку, но в торжественных случаях пища готовится и принимается в той самой комнате, где я проводил ночь. Оказывается, средняя из татами вынимается и в углублении обнаруживается миниатюрная газовая плита. Никакой кухни, все готовится тут же, у тебя на глазах. Так и в большинстве ресторанов — в кипящее масло бросается по-особому приготовленное мясо и раздается потом ловким, молчаливым официантом.
Кулинария, кухня японская — не буду кривить душой — особого восторга у меня не вызвала — вкусы у меня примитивные, все эти каракатицы, осьминоги и сырые рыбы я с готовностью меняю на элементарную котлету с жареной картошечкой. Но подаются они, морские эти чудовища, так красиво, в окружении таких симпатичных, неведомых мне, по-особому разложенных овощей, а рядом, в других тарелочках, совсем иная уже композиция — что это такое, ты и представления не имеешь, но как разложено, как аппетитно сверху лежит какая-то ягодка, а может, это и не ягодка, а рыбий глаз — смотрит на тебя и посмеивается.
«"Не сотвори, а найди и открой" — этому общему девизу японского искусства следует и такая полноправная его область, как кулинария. Когда сравниваешь японскую кухню с китайской, коренные различия в эстетических принципах этих двух народов предстоят особенно наглядно». Это у Овчинникова. И дальше: «Если китайская кулинария — это алхимия, это магическое умение творить неведомое из неведомого, то кулинария японская — это искусство создавать натюрморты на тарелке».
Любуюсь этими натюрмортами, а мысли о котлетке. Сплю в японской комнате, отдаю должное лаконизму внутреннего убранства, но вспоминаю дом Волошина в Коктебеле, деревянную, рубленую избушку Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в Карачарово.
Вот где чувствуется человек, хозяин дома. У них. Сижу на веранде у Ивана Сергеевича, что-то пишу, а вечером у камина — он рассказывает, а я слушаю и разглядываю кувшинчики и туесочки на камине, портреты в овальных рамах, пожелтевшие фотографии прошлого века. И льется неторопливый рассказ, прерываемый то раскуриванием трубки, то глотком живительного напитка. Рассказ молодого когда-то матроса на линии Одесса — Александрия пароходного общества «РОПиТ», затем послушника русского православного монастыря в греческом Афоне, второго пилота на «Илье Муромце» в Первую мировую войну, охотника на лисиц и зайцев в смоленских лесах и белых медведей в Заполярье, участника гражданской войны, потом эмигранта в Англии и Берлине, замечательного рассказчика и писателя, великого любителя «своих ста грамм», человека, ни разу в своей жизни не солгавшего, ни устно, ни письменно. Жить в таком доме, где все дышит хозяином, его прошлым, настоящим, его мыслями, его душой, — жить в нем и не полюбить его, — невозможно.
У дома Волошина другое лицо, другая душа. Книги, книги, книги, от пола до потолка — книги. А в простенках, над лестницей портреты, пейзажи — Кара-Даг, Хобо-Тэпэ, народившийся только что полумесяц над Сюрю-кая...
В столовой все стены в акварелях, гуашах, пастелях. Остроумова-Лебедева, Добужинский, сам Волошин. Сколько сиживал я осенними вечерами за этим длинным обеденным столом, пил чай с вареньем, и Марья Степановна, маленькая, живая, сморщенная, все помнящая, ворошит прошлое, а ворошить есть что — кто только не перебывал в этом доме, «Доме поэта», таком приветливом и гостеприимном.
И никого уже нет. Ни Иван Сергеевича, ни Максиньки, ни Марии Степановны... Карачаровский дом, вероятно, продан внуком Сашей, Дом поэта — филиал то ли Феодосийского краеведческого музея, то ли галереи Айвазовского. У входа, очевидно, касса, продают билеты...
Вот о чем думал, просыпаясь в своей японской комнате и любуясь иероглифами на стене. Красиво, красиво, ничего не скажешь, но того, что есть в Карачарове, в Коктебеле — души — нет. Традиция убила ее.
* * *
Традиция и условность — очевидно, без этого японец не может. Так положено, отходить нельзя. Культ семьи, уважение к старшим, вежливость, переходящая все границы, даже пугающая, тяга к красоте, к чистоте (вылизанная Швейцария — студенческое общежитие по сравнению с Японией), к порядку — все это создавалось, культивировалось веками. Есть чем гордиться.
Чистота и порядок.
На одной из крупнейших судостроительных верфей фирмы «Кавасаки», куда занесла меня все та же нелегкая (г. Саканидэ на острове Шикоку), поразили меня не столько ремонтирующиеся стотысячетонные танкеры, как именно эта самая, невиданная мною доселе чистота, перед которой меркнут все операционные залы мира, даже моя квартира, где я все время что-то мою, чищу, вытираю (псих!) в ожидании жены — видела, как это делается? Так вот, на верфи этой на всем ее протяжении ни соринки, ни пылинки, ни окурка — единственный обнаруженный был мой, который я, спохватившись, тут же сунул в карман.
Входя в дом, все разуваются, подают тебе шлепанцы. А куда-то можно (или нужно) заходить только босиком или в носках. Я вечно путал — что куда.
Плохо или неряшливо одетых людей я не видел. Пиджачки, галстучки, белоснежные, только что из-под утюга, рубашки. Где джинсы, шорты, свитерочки? (В университете я их все же обнаружил.) Женщина в брюках редкость — одна на десять (от нечего делать в метро — подсчитывал) — не положено.
Точность...
Заказы выполняются с пунктуальностью хронометра. Чтоб ты ни захотел — отремонтировать часы или построить танкер в 600 тысяч тонн. Если по условиям он должен быть готов 16-го числа в три часа дня, спокойно приходи в три часа дня и забирай свой танкер — он будет стоять у причала, чистенький, с иголочки, ожидающий тебя.
Поезда не опаздывают. Можешь по ним проверять часы. (В Швеции, этой зимой, на вокзале в Стокгольме никто нам не мог сказать не только, когда отправится нужный нам поезд, но и отправится ли он вообще, какие-то стрелки, мол, замерзли. В Японии, кстати, тоже бывает зима, но даже на севере, на Хоккайдо, в расписании это никак не отражается.) Знаменитый «Щиканзен» мчится по своей эстакаде через пол-Японии, а скоро будет через всю, каждые пятнадцать минут, остановить или отменить его может только забастовка1. К слову сказать, этот отнюдь не дешевый поезд-люкс в уик-энды так набит, что мы от Хиросимы до Окаямы (минут 40 езды) простояли в проходе, притиснутые друг к другу, как в подмосковной электричке в воскресенье утром.
«Не пользуйтесь нашим метро или электричкой в часы пик, — говорили мне в Токио, — это не поддается описанию». Я все же попользовался. Народу действительно много, и здоровенные хлопцы довольно энергично впихивают, вдавливают тебя в вагон (подрабатывают студенты, их специально нанимают, и маленькая эта халтура по-японски называется — ар-байт!!!!), но хоть бы кто пикнул, я уже не говорю о более энергичных выражениях. Впрочем, это свойственно и англичанам. Как-то в лондонском метро поезд остановился между двумя станциями, в туннеле, к тому же погас свет. Минут двадцать мы сидели в темноте. Ни слова обсуждения! Молча себе сидят, о чем-то думают. Только кто-то в темноте перебрался из соседнего вагона в наш — наш был «курящий».
Думаю, что именно это — любовь к точности, аккуратности, понимание, что здоровенный хлопец пихает тебя в спину не потому, что он хам, а просто надо, чтоб дверь как-то все-таки закрылась, — что именно это привело к тому, что японские транзисторы, магнитофоны, фотоаппараты, поезда и танкеры — лучшие в мире. Вероятно, есть еще какие-нибудь причины, но характер самого японца, традиция быть именно таким, в первую очередь создают репутацию товарам с маркой «Made in Japan».
Японцы умеют работать, это традиция. (Умеют работать и немцы, даже мы, русские, и не только умельцами мы можем похвастаться, сейчас же просто не хотим работать...) Умеют японцы и воевать (мы, впрочем, тоже — неудачи русско-японской войны на совести генералитета, отнюдь не солдат). Но каждый воюет по-своему. Русский, немец, японец. Немцы в плен не сдавались. За пять с лишним месяцев сталинградской битвы я не видел ни одного перебежчика. Сдались они по приказу Паулюса. А мы? В первые месяцы войны целые армии оказались у немцев в плену. В причинах еще надо разобраться, но не отсутствие храбрости тому виной. Но ни у нас, ни у немцев не было камикадзе. Это чисто японское. Нам непонятное, как харакири. (Александр Матросов одна из самых нелюбимых в армии легенд.) Камикадзе отправлялся в свой последний путь, как на праздник. С высоко поднятой головой. Выпивал свою японскую последнюю «стремянную» и шел, летел на гибель с именем императора на устах.
Трудно поверить? Трудно. Не зря говорят — чужая душа потемки.
Потемки... Но в потемках японской души ярким солнцем (а герб Японии — солнце — красный круг на белом фоне) сияет то, что сразу заставило меня полюбить этот народ — та самая тяга к красоте, о которой я уже говорил. (Прошу прощения, начинаю повторяться — знаю! — но, ей-богу же, о хорошем можно и несколько лишних слов сказать.)
Академик Жолтовский, — один из образованнейших архитекторов России, — утверждал, что человечество создало два шедевра — Парфенон и русскую пятистенную избу. Стоит ли вступать в спор с покойником (в студенческие годы он был нашим главным врагом — мы вперед, к зияющим высотам, он назад — к забытому Ренессансу...), но, ей-богу же, глядя на русскую деревню, как-то не замечаешь в ней особой тяги к красоте.
Году, если не ошибаюсь, в 54-м мы с мамой совершили путешествие по Волге. От Москвы до Ростова-на-Дону. Сколько ж сел и деревень прошло за нашим бортом. И ни кустика, ни деревца, ни цветочка — избы, избы, избы...
Побойтесь Бога, Виктор Платонович! А резьба и наличники русских провинциальных домов, а храм Преображения в Нерли, а северное деревянное зодчество — кто ж это создал? Не русские разве? Русские, конечно ж, русские, но вот волжская деревня (в одной из них, Пичуге, я со своим запасным батальоном простоял всю зиму сорок первого года) — Боже, какая ж тоска и уныльство. (Я не говорю об украинском селе — «Садок вишневий коло хати, хрущи над вишнями гудуть...» — с беленькими хатками и соломенными «стрихами», уходит оно, бедняжка, в прошлое. А за воспевание этих самых «стрих» в свое время крепко досталось и Владимиру Сосюре, и Максиму Рыльскому...) Нет, русскому мужику, точнее, нынешнему колхознику, не нужны ни клумбочки, ни цветочки под окном, ни кудрявая березка, о которой, возможно, он и складывает песни, но посадить — в голову не придет. Сама вырастет — хорошо, но сажать — и так с ног сбиваешься, ничего не успеваешь — до березки ли...
___________________
1 По этой линии курсирует ежедневно по 125 пар поездов. Длиной чуть ли не в полкилометра, поезд вмещает 1500 пассажиров. В день перевозят 300 тысяч...
А вот японцу — до березки. Только там она не березка, а сакура, вишневое дерево. (Мы, к сожалению, не попали на пору ее цветения, когда вся Япония утопает в бело-розовом море.) Сакура, бук, клен всех цветов, до ярко-красного даже летом, криптомерия, катальпа, сотни видов сосен, изогнутых, скрюченных, стелющихся, с хвоей, как бахрома, или совсем крохотными иголочками, — их заросли окружают дворцы, храмы, дома — городские (не в центре, конечно, а в предместье), деревенские.
Через три континента, над Гималаями, над пустыней Гоби, вез я в целлофановом мешочке крохотную, карликовую сосенку. По-японски она называется — бонзаи (не путать с «банзай!» — японским «ура!»). Вырастить такую сосенку (или клен, или бук, или яблоньку, абрикос) величайшее искусство. Такое же великое и такое же сугубо японское, как икебана.
Вез свою сосенку и трепетал — а вдруг не пропустят на французской таможне. Фрукты и овощи, например, ввозить нельзя, чтоб не занести инфекцию. (Говорят, английские вязы потому и гибнут, что завезена была с континента какая-то зараза.) Симпатичная барышня из «Пакистан интернэйшнл Эрлайнс» специально звонила во французское консульство — там ее успокоили, сказали, что бонзаи привозить разрешается, только если они дороже 168 (9) франков, обложат пошлиной. И все же я волновался. Зря. В Париже, в Руасси, никто нашими чемоданами даже не поинтересовался...
И стоит моя сосенка (по-английски White Pine — белая, в противоположность Black Pine — черной сосне, хотя обе они просто зеленые) у самого окна (ей нужны солнце и воздух) и раз в три дня я ее поливаю и по указанию сведущих японцев (видел по телевидению, как это делается), отрываю лишние почечки, чтоб лилипутка моя не превратилась в великаншу. И чтоб не чувствовала она себя, бедняжка, одинокой, чтоб не захирела от ностальгии, расставил по книжным полкам икебаны собственного производства. Спускаюсь по вечерам, когда все уже ложатся спать, вниз, в садик, окружающий наш дом, и воровато, озираясь по сторонам, ломаю веточки парижских кустарников и мастерю японский букет.
Японский букет — икебана — это отдельная область искусства. О нем опять же книги. И много. Две из них я даже привез с собой1. Это не обязательно цветы. Могут быть и цветы, но не они главное. Главное — композиция. Из листьев, веточек, стеблей, корней, а все вместе маленький, изящный шедеврик. И он, этот шедеврик, единственное украшение японской комнаты. И рядом свиток с изречениями. Другой, иероглифический, шедеврик.
Но почему же, почему, — вырывается из груди вопль, — при таком чувстве красивого и соразмерного, так бестолковы и хаотичны города? И не объясняйте мне это какой-то особенностью японцев — ему, мол, важно, чтоб красиво и соразмерно было у НЕГО, а за порогом хоть джунгли, хоть трущобы... Неубедительно — в деревнях и за городом красота. И вообще, японец любит, чтоб окружающее ласкало ему глаз. Я в тупике...
В комфортабельнейшем номере нашего «Токио-Принц-отеля» (в ванной каждое утро появляется бритва, гребешечек, зубная щетка и набор флакончиков с лосьонами, а на кровати свеженькие кимоно) на стенке висел натюрморт Брака. То ли яблоки, то ли груши, одним словом, Брак.
Перед сном, отложив свою «Ветку сакуры», я смотрел на него, на Брака, и задавал себе вопрос: зачем его здесь повесили? Для «европейскоcти»? Почему не иероглифы? Или Хокусаи?
Упаси Бог, рассуждать о японском искусстве не буду — о нем тома, тома, тома... Европа просто обалдела, открыв для себя в конце прошлого века японскую гравюру. Хокусай и Хирошигу, великие мастера цветной гравюры, преподнесли европейцам, уже после своей смерти, нечто совершенно новое, перевернули еще одну страницу в истории искусства. Ван Гог, упиваясь, копировал эти гравюры, включил их как некий фон в свои портреты — из-за спины его «Папаши Танги», торговца красками, так любившего художников, богему, выглядывают и Фудзияма, и цветущая сакура, девушка в кимоно.
___________________
1 Есть такая, будь она проклята, серия карманных, очень изящных книжечек «Колор-бук». Там и города, и веси, и храмы, и художники, оружие, бабочки, насекомые, пауки, рыбы, сады, кимоно, поезда, бонзаи и даже пять томиков специально о планктонах японских морей. Купить хочется все и немедленно.
Хокусаи...
Мой подход к искусству примитивен. Критерий прост — хотел бы я, чтоб эта картина висела у меня дома? Продрав утром глаза, я хочу видеть перед собой в окно облака (успокаивают, как валерьянка, забытое средство наших бабушек), а на стене рядом, ну, допустим, «Околицу» Левитана или серовскую «Девушку с персиками». А сейчас, после Японии, скажу — и «Волну» Хокусаи. В Японии она, увы, уже звучит, как некая банальность, вроде наших шишкинских мишек или васнецовских «Богатырей» — издержки популярности, что поделаешь — тем не менее, каждого, прочитавшего эти строки, прошу разыскать (в Москве, думаю, это не трудно) альбом гравюр Хокусаи, и сразу станет ясно — перед вами чудо. И серия «Тридцать шесть видов горы Фудзи» тоже чудо. («Волна», если не ошибаюсь, тоже в нее входит.)
Впрочем, Япония вся чудо!
* * *
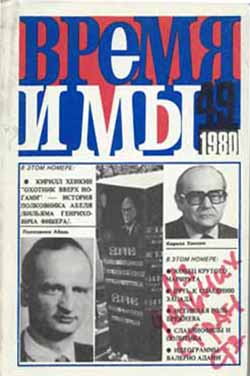 Жизнь ворвалась в мою тихую обитель и отодвинула на какое-то время японское чудо на задний план. Есть чудеса более близкие, более дорогие.
Жизнь ворвалась в мою тихую обитель и отодвинула на какое-то время японское чудо на задний план. Есть чудеса более близкие, более дорогие.
Телефонный звонок. В основном телефон молчит — все в разъезде — кого ж черт несет?
— Виктор Платонович? Спешу вам сообщить радостную новость, только что говорила по телефону со Славиком Глузманом...
— Бог ты мой! Откуда?
— Из Иерусалима.
— И куда?
— В Нижнюю Тавду.
— Господи! И где же это?
— В Тюменской области.
— Из Иерусалима в Тюменскую область? И сейчас вы из Иерусалима?
— И сейчас. Зовут меня Клара, и мы встречались с вами в Киеве.
Из дальнейшего разговора выясняется, что Славик, отсидевший уже свои семь лет, а сейчас отбывающий ссылку, работает диспетчером в колхозе (телефон 45 401), что получает много писем, правда, все от посторонних, свои что-то молчат (я начинаю заливаться краской — посторонние знают, а я до сих пор не разузнал его адреса), просит прислать ему книги, желательно, по психиатрии, журналы по искусству. Чувствует себя хорошо. Здоров. (В этом я не уверен.)
Через пять минут вынимаю из почтового ящика «Русскую мысль». На первой странице, внизу, фотография — Елена Георгиевна Боннэр, жена Сахарова, и Славик — она приехала его навестить в ссылку. Судя по фотографии, изменился мало, только пострижен. Лицо грустное.
Все вышеизложенное я считаю чудом. Семь лет лагеря, в котором могли... Что угодно могли. Как в том анекдоте про Ленина. «Куда идешь, мальчик? — В школу. — А отметки хорошие? — Да, ничего. — Ну, иди, иди, учись... А ведь мог и убить».
Так и Славик. Самое страшное уже позади. Не убили. А могли. А впереди?
Другое чудо...
Год тому назад, приблизительно в это же время, может, чуть-чуть попозже, я сидел, как и сейчас, в пустом Париже и предлагал читателю помечтать. «По обе стороны стены» заканчиваются маленькой подборкой мечтаний. Среди них и такая мечта № 7.
«Зал "Мютюалитэ" в Париже. Забиты все проходы, сесть негде. В президиуме ученые, писатели, нобелевские лауреаты. Приехал из Вермонта А. И. Солженицын. Председательствует Пьер Эмманюэль. Выходит к трибуне:
— Мы собрались сегодня в этом зале, чтоб чествовать приехавшего в Париж после стольких лет тюрьмы, замечательного русского человека и писателя...
Лавина аплодисментов не дает возможности услышать имя писателя. По проходу идет бледный, усталый, худой, красивый человек. Эдуард Кузнецов...»
Действительность внесла кое-какие коррективы — вместо «Мютюалитэ» был другой зал, на бульваре Порт-Рояль, и никто из Вермонта не прилетел. Я, увы, тоже был далеко, ничего о встрече не знал, но через несколько дней Пьер Эмманюэль (в прошлом председатель французского ПЭН-клуба) приветствовал Кузнецова в издательстве «ИМКА-ПРЕСС», и туда уж я попал.
Ну, что сказать?
Конечно, волновался (а Кузнецов был спокоен, немногоречив, сдержан), и так хотелось сказать что-то значительное, на века, и так не получилось — и спрашивал не то, и говорил не то... Впрочем, так ли это уж важно, теперь все впереди. И встретимся, и выпьем, и наговоримся вдосталь. Все впереди! Главный, единственный, окрыляющий меня лозунг. Все впереди!
Буковский вот успел уже и с королевой пообедать, и первый курс Кембриджского университета закончить (а как волновался, что завалит экзамены, и как приятно было на это волнение смотреть), хорошую книгу написал. Кузнецов тоже уже пишет, разрываясь на части между конференциями, встречами, беседами, интервью — сегодня Париж, завтра Лондон, послезавтра еще что-то...
Ну, разве не чудо? Треть жизни провести в тюрьме, сидеть в камере смертников, а теперь все эти Нью-Йорки, Парижи, Лондоны, «Боинги» туда-сюда, со всех сторон микрофоны (другие уже...), и одна только мысль: «уединиться, уединиться бы... Дописать.
Чудеса, иначе не скажешь.
Да какие ж это чудеса, — скажут мне иные скептики, — самая что ни на есть элементарная проза. Да и прозаик-то скорее спекулянт. Придумала советская власть торговлю людьми, вот и торгуют. Последней пятеркой выторговала СОЛТ-2, сейчас, очевидно, торгуется, чтоб попасть в список стран наибольшего благоприятствования. Какое ж это чудо? Работорговля. Только рабы стали другими — строптивые, непокорные.
И все же чудо. Именно то, что стали работорговцами, а не только убийцами. Что выпускают на волю людей умных, несгибаемых, борцов. И что не выносят их из самолета на носилках. Все это чудеса.
И вообще, страна моя — «Страна чудес». Иначе, чем чудом, не назовешь, что в магазинах до сих пор почему-то есть еще сахар, что московское метро самое четкое, бесперебойное во всем мире, и самое чистое, что не глушат «клеветнические» радиостанции, и что никто не боится их слушать, хотя нормальный советский гражданин приучен бояться всего, начиная от дворника и управдома. И то, что космонавты шестой уже месяц крутятся вокруг нашего шарика и ничто у них не ломается, не отказывает, а вот пришить к штанам пуговицу нечем — ни в космосе, ни на земле — нету ниток.
Кстати, о нитках.
Вынужден принести извинения моему тезке, Виктору Григорьевичу Афанасьеву, главному редактору газеты «Правда». (Между прочим, мы были одновременно с ним в Японии, и я очень советовал японским писателям, с которыми встречался в ПЭН-клубе, пригласить его к себе, для контраста, так сказать.) Так вот, хочу извиниться перед ним. Дело в том, что во всех своих выступлениях (и в ПЭН-клубе тоже) я какое-то время уделяю «Правде». Иронизируя по поводу названия и приводя различные примеры, я, по-моему, довольно убедительно доказываю, что именно того, что обещано в заголовке, в газете нет. А вот и есть! — возражаю я сам себе. И нечего вводить в заблуждение западного читателя.
На второй и третьей странице попадаются иногда материальчики, которые, воспользуйся ими кто-нибудь из наших писателей, цензура черта с два пропустила бы.
Вот, например, что я вычитал в номере «Правды» за 23 июня 1979 года, в разделе — «"Правда" выступила. Что сделано?» (Не знаю, для кого это я пишу. Советский читатель все это знает и без меня, мы, эмигранты, еще не забыли, а иностранец, глядя, например, наши фильмы, — показывали здесь шукшинские «Печки-лавочки» — воспринимает все эти «мелочи быта» как некий сюрреализм; никто ж не поверит, что простых ниток нет...)
Итак, о простых нитках.
В связи с корреспонденцией «Катушка ниток» («Правда», 20 июня) газета сообщает, что зам. министра текстильной промышленности РСФСР Л. Андреев объяснил, почему все еще нет ниток. Оказывается, не хватает тонковолокнистого хлопка, сокращены поставки деревянных катушек, к тому же просто-напросто нет высокопроизводительного оборудования для выработки ниток. Нет и все! На дворе давно уже зрелый социализм, а оборудования нет. Что же делать? Ходить с расстегнутой ширинкой? Нет, выход, оказывается, есть, нужно только перевести фабрику «Красная нить» Ленхлоппрома на производство ниток из хлопка третьего сорта взамен первого и второго, и все пойдет как по маслу — к концу года будет выпущено 2,5 миллиарда условных катушек. (А где же деревянные, ведь, кажется, их-то и не хватает?)
Другой замминистра, на этот раз уже сельского хозяйства СССР, А. Чубаров, тоже успокаивает — собираются, мол, усиленно внедрять какой-то новый гибрид шелкопряда с высокой шелконоскостью. Что-то обнадеживающее по поводу полиэфирных нитей для синтетических швейных ниток пообещал и В. Семенов, и. о. начальника «Союзхимволокна». Одним словом, на 63-м году существования советского государства будут нитки. Дело только за иголками.
Ну, разве все это не чудеса?
Нет лампочек и батареек, а «Союзы» и «Салюты» летают себе и летают, как ни в чем не бывало. Правда, когда что-то неладное, на весь мир не кричим.
Те, кто помнит мои предыдущие очерки, знают мою слабость — зацеплюсь за «Правду», никак от нее оторваться не могу. Что поделаешь, привычка с детства. Десятилетним мальчишкой бегал уже на Владимирскую, к университету, где вывешивалась печатавшаяся на синей оберточной бумаге «Пролетарская правда». Внимательнейшим образом следил за вашингтонской конференцией по разоружению и греко-турецкой войной, болея, конечно, за греков (прогрессивность Кемаль-паши как-то до меня не доходила — отменил фески, ну что это такое?). С тех вот пор и отравился. «Ненормальный, — говорят мне друзья, — вокруг море разливанное всех видов информации, а он, времени не жалея, "Правду" читает...» «Нет, не жалею. Называйте меня, как угодно, — мазохистом, копрофилом, но без родной своей "Правды" жить не могу. И, честное же слово, в каждом номере что-нибудь, да найдешь».
Пожалуйста, в том же номере, где про нитки и шелкопряд, в том же даже разделе, некто М. Кулешов сетует на то, что на железнодорожных станциях нет газетных витрин, «сплошь и рядом встречаешься с фактами их недооценки». Прав тов. Кулешов, вполне разделяю его возмущение, конечно же, безобразие, что «на пригородных платформах Московской ж.д. газетные витрины явно оказались в опале». Как бывшего советского гражданина меня это безусловно огорчает. И в то же время радует. Радует, что есть такие М. Кулешовы, которые не только огорчаются, а вот уже сколько времени — «три с половиной года назад (15 мая 1976 г.) я писал об этом в заметке "Исчезнувшие витрины"»— борются за правое дело. И времени не жалеют. С упорством, достойным лучшего применения (весьма ходкая фраза из арсенала советского журналиста, пишущего, правда, об очередной западной «клевете»), обращается М. Кулешов ко всем, от кого зависит эта животрепещущая проблема. К начальникам станций Быково, Раменское, Люберцы, Воскресенск (т.т. Попову, Блинову, Хавину, Лысенко), к заместителям секретарей партбюро Московской жел. дор. и Московско-Рязанского отделения т.т. Колунову и Милосердову, дважды беседовал с заведующим отделом пропаганды и агитации Раменского горкома КПСС т. Додоновым — а воз и ныне там. Не выдержал, написал в «Правду». И газета — не буржуазная, гоняющаяся за дешевой сенсацией, а наша, советская, — поддержала товарища, напечатала его заметку... Кажется, мелочь, а вот и не мелочь. И засуетятся Поповы, Милосердовы и Додоновы, и появятся на дачных перронах газетные витрины, и будет что почитать ожидающим поезда пассажирам. Вот что значит простой советский М. Кулешов! До всего ему есть дело, во все вмешивается, не успокаивается, четвертый ведь год борется за эти витрины, не сдается и не спивается с горя — гвозди бы делать из этих людей! Жаль, что не могу с ним познакомиться, о таких людях писать надо, упорных, настойчивых, неспокойных — они-то и строят коммунизм.
Но шутки в сторону. Я не знаю М. Кулешова и, может быть, зря над ним иронизирую (признаться, завидую энергичным людям), но сколько в нашей стране еще читателей «Правды», которые не по принуждению, а «по велению сердца» заваливают редакции письмами. И не только о нехватке газетных витрин или почтовых ящиков, а и о вещах посерьезнее — о чувстве гнева, которое охватывает читателя в связи с нейтронной бомбой, вероломным нападением китайцев на мирный Вьетнам или — тут уж, действительно, как промолчишь! — о недостойном, позорном поведении некоторых наших писателей и ученых.
Как ни грустно это сознавать, но не все экскаваторщики и доярки пишут под диктовку секретарей парторганизации. Совсем как живой передо мной тот молоденький шофер, о котором писала в свое время Лидия Чуковская. Даже, кажется, голос его слышу:
— Читали, гражданочка? Один писатель, Пастер, кажется, фамилия, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Я вот этими руками, на комбайне, для него хлеб убирал. А он, гадина...
Становится страшно. И таких мальчиков не один и не два, их тысячи, а то и миллионы. Советская пропаганда, при всей своей примитивности и тупости, может определенно похвастаться определенными успехами в области засорения мозгов. Не зря второй секретарь ЦК партии любой республики называется «по агитации и пропаганде». Не все, слава Богу, в нашей стране читают газеты и слушают московское радио (думаю, что подавляющее большинство), но не будем обольщаться, — сколько еще и слушает, и читает, и — главное, верит тому, что Буковский уголовник и поджигатель войны, а Арафат честный, благородный борец, отстаивающий права своего народа. Сколько их — верящих... И не верящих, ни во что не верящих, но читающих, выступающих, разоблачающих. Экскаваторщики и бульдозеристы верят слепо и выступают, не ведая, что творят, а вот эти, которых Никита в свое время любовно окрестил «автоматчиками литературы», все эти Грибачевы, Наровчатовы, Медниковы, Стрехнины и Рекемчуки не только ведают, но и творят. С каким восторгом и в то же время задыхаясь от справедливого гнева, перебивая друг друга, клеймили они, когда дошла ее очередь, бедную Лидию Корнеевну Чуковскую за рассказ об этом мальчике-шофере. Позорище это происходило на заседании секретариата московского отделения Союза писателей, срочно созванном, чтоб расправиться, наконец, с писательницей, специализирующейся на клевете и инсинуациях. Вот, пожалуйста, последняя ее стряпня — «Гнев народа», или, как они любят называть, открытое письмо, где она берет под защиту предателей и отщепенцев — Сахарова и Солженицына. Совсем распоясалась. Пора призвать к порядку! Давно пора. (У меня сейчас в руках только что вышедшая в издательстве «ИМКА-ПРЕСС» книга Лидии Чуковской «Процесс исключения», в подзаголовке: «Очерки литературных нравов». Все в ней описанное происходило вроде и давно, в начале 74-го года, но, Господи, до чего ж еще свежо в памяти...)
Призвать к порядку! И призвали. И из Союза исключили. Не легко это было. Бедного, разволновавшегося Лесючевского Николая Васильевича, директора всем очень нужного издательства «Советский писатель», наперебой успокаивали — «Коля, не волнуйся, не стоит она того... У тебя больное сердце... Надо щадить себя... Тебе вредно волноваться. Вспомни, дружище, ведь мы страна победителей! Мы взяли Берлин! И ты расстраиваешься... Из-за чего? Из-за какой-то несчастной статейки...»
Несчастная статейка... Специально приехали со своих дач, оторвались от работы, бензина не пожалели. И сил, и энергии не пожалели, не только бензина, а вот разыскать убийц Кости Богатырева, хорошего литератора и хорошего человека, которому «неизвестные» проломили череп, на это энергии не хватило... И никому почему-то не стыдно.
* * *
Народу было не очень много, человек двести, не больше. Студенты и аспиранты Токийского университета со странным названием — Софийский. На следующий день японские писатели. А до этого, зимой еще, в Швеции, Норвегии, Дании — опять же студенты, профессора, писатели. И все они, японцы, шведы, норвежцы, датчане, финны, в прошлом году англичане, немцы, итальянцы — все они интересовались, в основном, одним и тем же — слыхали, мол, что литературным процессом у нас в стране руководит партия. Что это значит?
Господи, до чего ж хочется, поднявшись на трибуну или сидя за столом в небольшой аудитории, рассказать о чем-нибудь хорошем, веселом. Как радостно было много лет назад, в бытность мою еще советским писателем, рассказывать русским эмигрантам в Париже о рождении большого писателя, об «Иване Денисовиче», о жарких спорах на выставке в Манеже, о том, что у нас на родине наступает новая пора — и я верил в это! — пора раскрепощения, что пахнуло свежим ветерком. Последующее показало, что пахнуло, да не очень, и освежающие ветерки превратились в нечто, скорее напоминающее тайфун. И хочется говорить именно о нем, так недолго дувшем ветерке, а говоришь о тайфуне.
Сидят передо мной молодые японцы. Все они читали и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и, конечно же, Пушкина (а во Франции только сейчас — и то только благодаря стараниям Ефима Эткинда, впервые появляются его переводы), а вот о том, что происходит у нас сегодня в литературе, ничего не знают.
Начал я с того, — с этого всегда начинаю — что всем, кто еще не бывал в Советском Союзе, усиленно рекомендую съездить. Не пожалеют.
— Не Третьяковка, не Эрмитаж поразят вас. Музеями вас не удивишь, везде есть свои Лувры и Прадо — а вот люди, или, как принято у нас их называть, «трудящиеся», поразят. Несмотря на все интуристовские рогатки, я в этом уверен, познакомитесь с нашей молодежью. И увидите, что она и петь, и танцевать, и веселиться умеет. А если малость выпьет — а без этого у нас нельзя, — то и поговорить как-то удастся. И не я, эмигрант, исключенный из партии, на советскую власть обиженный, а поэтому, может, и несправедливый, а они, такие же, как вы, студенты, расскажут вам о своем житье-бытье, о том, чем и как дышат.
Виноват, я сказал, «такие же, как вы». Нет, не такие. Совсем другие. Какие, сами увидите. Но единственно, в чем я абсолютно уверен, — вам будет интересно. Интересно и удивительно. Вы, дети побежденных, встретитесь с детьми победителей. И вас поразит — почему вы, дети побежденных, чувствуете себя в чужой стране свободнее, чем они, дети победителей, в своей собственной? Вас поразит, что дети победителей поминутно озираются, переглядываются, что-то недоговаривают, какие-то вопросы обходят, на какие-то отвечают, но ты им не веришь. (Если выпьют, осмелеют, поэтому пейте, не бойтесь, голова утром будет болеть, но зато кое-что узнаете.) Вас поразит и то, что у победителей и фотоаппараты, и транзисторы, и магнитофоны уступают по качеству вашим, побежденных. И машин на улицах меньше, продуктовые магазины пустоваты, и чтоб посидеть с девушкой в кафе и полакомиться мороженым, надо с полчаса в очереди постоять. Стоило ли побеждать? — Здесь все начинают смеяться, а мне ничего не остается, как ответить — конечно, стоило. Я сам победитель, но... Все горе в том, что мы не только победители, мы и покорители...
Нет, эту тему я не развивал, уж больно она горькая, а перешел к литературе, своей непосредственной теме, да и просветов в ней больше.
Вопросов было много. И больше, и по содержанию интереснее, чем в Европе. И вообще — это поразительно! — культурный уровень японцев, народа, до начала этого века герметически закрытого для внешнего мира, — намного выше европейского, тем паче американского, их победителя. Я познакомился с переводчиком Чехова. «Что ж, вы и все пьесы перевели? — спросил я. — И "Платонова" тоже?» Он улыбнулся: «Пьесы... Вся переписка переведена». Значит, читают! Иначе не переводили б. Страна поголовной грамотности. И не как мы, каких-нибудь пятьдесят лет, а чуть ли не два столетия. Во Франции газету «Монд», несколько левовато-розоватую, но серьезную и профессионально безукоризненную, читает узкий круг интеллигенции, некая элита, в массе же читают «Орор» (элита называет ее газетой консьержек), «Франс-суар», воскресную «Журналь де диманш» с кроссвордами, комиксами, гороскопами и альковными тайнами кинозвезд. Токийскую «Асахи» (японская «Монд», только менее розовая) читают все. Тираж ее один из самых больших в мире.
Один из самых больших в мире...
И танкеров Япония строит больше, чем кто-либо другой (сейчас, правда, заминка, но виновата не Япония, а все те же всесильные шейхи). И «Тойота» вытесняет «Форды», «Фиаты» и «Симки»... И самые быстрые поезда. И это при том, что колесо появилось в Японии — я не поверил ушам своим! — только в середине прошлого века. А как же передвигались? А очень просто — знать на носилках, воины верхом, а прочие, если так уж надо, пешком...
(Между прочим, наша кавказская Сванетия тоже до прихода советской власти не знала колеса. Я карабкался по ней с рюкзаком за плечами в начале 30-х годов — колесного транспорта не было и в помине, все передвигалось на полозьях. Первое колесо, увиденное сванами, было не автомобильное, а самолетное шасси...)
В Японии нет дома без телевизора, конечно же, цветного. И двенадцать программ (из них две на английском языке). С шести утра до двух часов ночи. Телевизор мне противопоказан (ни в Киеве, ни в Париже не смотрю, разве что какой-нибудь фильм из полузабытых, классических, или «суды» над Роммелем и Тухачевским, или — это уже не пропускаю — выступление А. Чаковского перед французскими зрителями), но в каждом номере у меня стоял телевизор, и перед сном я нет-нет, да включал его. В основном самурайские фильмы, бейсбол или матчи японской борьбы «сумо».
По-французски есть термин, которого нет на русском языке — «l'art martial» — воинственное искусство. Это все виды карате, дзюдо, кунг-фу, Брюс Ли, ну и т.д. По-видимому, «сумо» тоже подпадает под это понятие.
Три раза в год по пятнадцать дней проводятся в Японии матчи или турниры («башо») сумо. Первое впечатление от «сумотери» — борцов, я бы сказал, скорее отталкивающее: непомерных размеров животы, груди, как у женщин, ноги-окорока. Потом постепенно привыкаешь, хотя по-настоящему увлечься этими, длящимися не больше двух-трех минут, схватками я так и не смог.
На помост, поднимаются двое таких детин. У них особые, отлакированные прически с узелком на макушке, на бедрах нечто, не то трусы, не то повязка со свешивающимися шнурками, которые в начале борьбы отбрасываются назад. Перед началом серия каких-то ритуальных движений, бросается зачем-то соль под ноги противника и оба становятся друг перед другом на карачки, широко расставив ноги и упершись руками в землю. Судья — он в традиционном кимоно и черной шапочке — делает знак, и противники бросаются друг на друга. Борьбы как таковой нет — одно напряжение, потом один из них летит вдруг на пол, и на этом все кончается. Победитель, подняв руки, ликует, обнимает соперника, и они расходятся. Подымается следующая пара... Интересно? Как сказать. Слишком уж все молниеносно кончается, не успеваешь даже решить, за кого ж болеть. А японцам нравится. Их, сидящих вокруг ринга, тысяч десять, не меньше — я ж на десятой минуте выключаю телевизор.
Из «не-мартиальных» видов искусства любят в Японии бейсбол и гольф. Я и в футболе-то не очень разбираюсь, в бейсболе же подавно. Запускается мячик с каким-то особым притопом, и надо его отбить специальной битой. Иногда не удается, и мячик ловит в особую рукавицу другой, стоящий рядом игрок. Есть еще и третий, он позади, в маске, и роль его мне не ясна. На пятой минуте я выключал телевизор или переключал на хорошенькую плачущую японочку, окруженную свирепыми самураями с пробритыми до макушки лбами.
Гольфа я не видел, только площадки для игры, обнесенные высоченными предохранительными сетями, в громадном количестве мелькали за окном нашего экспресса.
Футбол в Японии не популярен. Хоккей тоже.
На этом мои не очень-то квалифицированные рассуждения о спорте кончаются. Но не о зрелищах. Рискуя быть осужденным многими и многими моими читателями, считающими (не без основания), что я слишком много времени уделяю пустякам, я все же, нарушая одно из своих обещаний (см. последний абзац вступления к «По обе стороны Стены» — «Континент» № 18, с. 59), не могу не сказать несколько слов об одном виде зрелищ, поклонником (а мечтаю быть знатоком) которого стал здесь, на Западе.
На этот раз будет уже не телевизор, а вполне реальная, в городе Фрежусе, на юге Франции, римская арена, видавшая еще кровь гладиаторов. Зрителей если не десять, то тысяч пять, не меньше. И треть из них, а может, и больше, приехала из Испании. Приехала потому, что сегодня после семилетнего перерыва выступает прославленный на весь мир матадор, кумир и гордость Испании, легендарный Эль-Кордобес.
Весть о том, что он возвращается на арену, всколыхнула Испанию не меньше, чем война, объявленная баскскими террористами испанскому правительству и туристам. Став миллионером в 36 лет, Мануэль Бенитез, он же Эль-Кордобес, после десяти лет триумфа на аренах всего мира, раненый-перераненый, ушел на покой. Женился, нарожал детей, завел собственную «ганадерию», стал растить быков для коррид. На семь лет его хватило, потом все это осточертело, заела тоска по арене, по быку не за загородкой, риску, овациям. В первой же корриде, в Мадриде, под гром аплодисментов и крики «оле!», вырывавшиеся из тысяч охрипших глоток, он доказал, что по-прежнему не кто-либо другой, а именно он тореро № 1.
Эль-Кордобес не классик. Его называют революционером, нарушителем традиций. Поэтому у него не только доброжелатели и поклонники, но есть и критики, если не враги. Он нарушает веками установившиеся, не терпящие никаких отклонений приемы. Он дерзок и бесстрашен. Быки ему за это мстят. Не только по количеству ушей и хвостов — наград за хорошо проведенную «лидию», — но и по обилию ран он на первом месте. Короче — кумир.
Ну как не посмотреть на него? После головокружительного успеха в Испании и перед предстоящим турне по Латинской Америке он заглянул во Францию — в Байону (ох, как мне хотелось туда попасть!) и во Фрежус. И совершенно случайно я оказался там же в день его выступления. И не пожалел ста пятидесяти франков.
То ли возраст (разве так оно было в нашей молодости?), то ли разъедающий скептицизм, но я давно уже не замираю, входя в театр (да не очень-то теперь и вхожу — пошел недавно на французские «Три сестры», со второго акта ушел), к театральному новаторству отношусь с предубеждением, в балет не влюблен (исключение Барышников — первый класс!), к кино тоже как-то поостыл (фильмы теперь все разговорные, на нюансах, и моего французского на вникание в них недостаточно), одним словом, на старости лет любое зрелище меняю на книгу («Книга вместо водки» — было такое общество в дореволюционной России).
На Эль-Кордобеса — сам себе удивился — шел с давно забытым, тем самым юношеским, детским замиранием сердца. Толпа вокруг арены, давка при входе, возбуждающая музыка, да и сама арена, древняя, тысячелетняя, обсаженная повсюду, как воробьями, мальчишками. Публика южная, темпераментная.
Шесть быков. Три матадора. Немолодой уже, за сорок, высокий, стройный Жоаким Бернадо, тоненький тридцатилетний Габриэль де ла Каза и гвоздь программы Эль-Кордобес. Круглолицый, шатенистый, на испанца не очень похож, чуть-чуть тяжеловат (сужу по заду, весьма существенная деталь всего облика), сорока трех лет, одет во все красное с золотом, только чулки розовые — это обязательно.
— Ну и что же? Покорил?
Нет, я не разочаровался. Но, очевидно, я все-таки традиционалист. Не знаю, как это поточнее сказать, но в Эль-Кордобесе есть что-то шпанистое. Некая развязность, бравада, игра на публику и, главное, то, что не могло не покоробить, пренебрежение к быку. Хватает за рога, гладит по лбу — все это на волосок от смерти, но уж очень напоказ. И не изящно. Вообще, с изяществом у Эль-Кордобеса не очень. Уступает тем двоим. А в искусстве тореро это, пожалуй, самое главное. Все приемы, все эти вероники, бурладеро, чикуелино, повороты, изгибы, мелкие шажки, прямые ноги, выпячивание живота и, вдруг неожиданно вялый уход от быка, мол, мне безразлично, спиной к нему, — все это некая школа, ритуал, обязательный и очень красивый рисунок, где важно не только движение, но и линия, ставший классическим сам силуэт матадора. У Эль-Кордобеса это малость хромает. Зато темперамент, быстрота, лихость, что и создало ему славу. Думаю, что коронный его номер {сужу по крикам) — это когда он падает на колени (называется «де родиллас») спиной к быку и молниеносно меняет позицию, справа налево, и все на коленях. Эффектно и страшно, но... Те двое, Бернадо и де ла Каза, что там ни говори, красивее. Безупречность и чистота приемов у первого и совсем юношеская легкость второго меня покорили куда больше, чем шпанистская отчаянность кумира.
Бедному, такому благородному и изящному Бернадо в этот раз не повезло. С самой «Эстокадо де муэрто», смертельным уларом шпаги у него что-то не получилось — второго быка убил только после четвертой попытки. После третьей прорвалась даже досада, хлопнул себя по коленке и потом, совершая все же крут почета (очевидно, он любим и ему что-то прощается), он чуть-чуть смущенно, точно извиняясь, разводил руками — что поделаешь, мол, чего не случается. Зато молоденький (относительно, правда) Габриэль де ла Каза оказался на высоте. Ни одной промашки, и с первого раза убил своего второго быка (с первым быком не удалось даже самому Эль-Кордобесу). В награду получил два уха и хвост, круг почета совершил на плечах кого-то из болельщиков, и — высшая награда! — мэтр благосклонно обнял его за плечи после столь удачной «лидии».
А все вместе красиво, возбуждающе и немного, конечно, жалко быка — такой свирепый и полный жизни выбегает он на арену и такой усталый, выдохшийся, с ручьями крови от болтающихся на спине бандерилий, тяжело дышащий, стоит он перед направленной на него шпагой.
Они застывают друг перед другом — человек и бык. Одного ожидают овации и летящие на арену маленькие мехи с вином (делается два-три глотка, и кожаный сосудик летит обратно в публику) или свист, и вместо мехов подушечки, на которых сидят, — другого смерть. Попасть шпагой надо в определенное место в загривке. Это не всегда удается. Бык шатается, но не падает. Матадору полают другую шпагу с маленькой перекладиной на конце, которой он, как крючком, вырывает первую, застрявшую... И опять застывают друг перед другом. На быка больно смотреть — как быстро его измотали. Он, правда, повалил пикадора (публика иронически относится к этим грузным, пожилым дядькам на вялых лошадях с завязанными глазами, одетых во что-то стеганое, предохранительное) и довольно бойко гонялся за этими прыткими ребятами с бандерильями, но сейчас он тяжело дышит, опустил голову, коротконогий, черный, с потеками крови по бокам.
Матадор вытягивается в струнку, держит шпагу («эспада») почти у самых глаз. Выжидает. Примеряется. Наконец выпад левой ногой и эспада вонзается в загривок, Во время самого броска бык выходит из своего оцепенения и тоже бросается. Увы, это не спасает его, только продлевает муки. Все повторяется снова. На это смотреть мучительно. Матадор нервничает, публика свистит или, если матадор любим, замирает в ожидании.
И бык рухнул. Музыка. Отрезают или не отрезают уши. Или кончик хвоста. Появляется трио лошадей. Быка увозят, выволакивают. Он уже забыт. Из шкуры его потом делают дамские сумочки. Это специальность жителей острова Ибица.
Итог? Искусство. «Мартиапьное», правда, но искусство. И очень красивое. И, конечно же, как во всех видах искусства, нужно, чтоб творили его мастера. Я это понял во фрежусской корриде — все трое были высшего класса.
Суми, очевидно, тоже искусство. И не легкое. Грузных, брюхастых этих ребят откармливают, учат, держат на особом режиме с пятнадцати лет. К двадцати пяти они уже покидают ринг. Как-то в метро я обратил внимание моей спутницы на сидевшего против нас очень толстого парня. «Суми?» — «Что вы, для суми это уже старик»... Но искусство это, уходящее, очевидно, своими корнями в глубь веков, мне, европейцу (все ж!), — чуждо. А Брюс Ли — нет. Что ж это такое? И мы говорим — Восток, иди разберись в нем. Иди-таки, разберись...
* * *
Хиросима...
Восток. Даже Дальний Восток.
Но бомба-то упала не восточная, а западная. Разберись-ка и в этом.
Само событие, как и все события прошедшей войны, уплыло куда-то очень далеко. Все реже и реже вспоминаю я Сталинград. Хиросиму и подавно. Для нас она давно уже некий символ, точка отсчета. Но оказавшись вдруг, в силу необъяснимых жизненных неожиданностей, в этом самом городе, бродя по залам мемориального музея, разглядывая леденящие кровь фотографии — трупы, трупы, трупы, гектары руин с одиноко стоящими, неизвестно почему выжившими скелетами отдельных зданий — стоя перед человеческой тенью, сохранившейся на ступенях одной из руин (а самого человека давно уже нет в живых...), глядя на сотни, тысячи ребятишек, рисующих, играющих, бегающих, догоняющих друг друга в парке Мира (в центре более чем лаконичная бетонная парабола над гладью бассейна Кендзо Тан-ге — все на фоне ее снимаются), ударяя, как все посетители, в колокол Мира — чтоб не было больше войны! — все, или почти все, зная и вспоминая, — задаешь себе через столько лет вопрос — а нужно ли это было?
Сломить Японию? Застращать Сталина? Какова цель этой гекатомбы — любимое выражение западных журналистов. 118 тысяч в Хиросиме, и еще 75 тысяч через три дня в Нагасаки. Зачем? Неужели, чтоб проучить, отомстить за Пирл-Харбор, не хватило одной Хиросимы? Непонятно. Так же, как и Дрезден, полностью уничтоженный, когда конец Райха был уже ясен, противник был повержен. И не по приказу Сталина, для которого человеческие жизни и бесценные сокровища Цвингера ничто, а по прямому указанию цивилизованного человека, президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумена.
Мы, русские, обязаны американцам многим — их танкам, самолетам, медикаментам, наконец, той самой свинотушенке, которой меня стыдили в родном нашем издательстве «Советский писатель» («На ваших глазах гибли наши доблестные бойцы, а вы о какой-то там свинотушенке...»), и если не двадцать миллионов, то все же триста тысяч молодых американских ребят сложили свои головы где-то у черта в зубах, в какой-то там Бирме, о которой они никогда и не слыхали, на островах Тихого океана. А вот Дрезден, Нагасаки (если считать, что Хиросима все же была необходима). Зачем?
Все эти мысли лезли в голову, не могли не лезть, пока мои неутомимые друзья запечатлевали на пленку очаровательную косоглазую детвору, заполнившую парк, а я, приморившись, устроился на лавочке, покуривал, любуясь все той же детворой.
Война...
Стоит ли вспоминать? Столько уже о ней написано, снято, спето. И все-таки вспоминаешь. Очевидно, надо.
Япония, агрессивная Япония, начавшая войну отнюдь не по-самурайски Пирл-Харбором, надолго, навечно запомнила ее конец.
6 августа 1945 года... 8.15 утра... Летающая крепость Б-29... На высоте 570 метров над городом с четырьмястами тысяч жителей взорвалась бомба... 118 661 убитых... 79 130 раненых... Город превращен в пустыню...
Разглядываю сейчас альбом, привезенный из Хиросимы. Вспоминаю Мемориальный музей. Искалеченные, скрюченные тела. Скелет трамвайного вагона. Расплавленный Будда. Сплавившиеся в кучу монеты. Черепа. И ожоги, ожоги, ожоги...
Мертвых не вернешь. Город восстановили. «Сестрику, братику, попрацюемо на Хрещатику». Павло Тычина. Такой, как Крещатик, — а мы оплакиваем его, хотя сами и взорвали, — была вся Хиросима. Может, у них был свой Тычина. Помог восстановить город. И восстановили. Не отличишь от других. О прошлом напоминают только закопченные стены, пустые просветы окон и каркас купола «Хиросима Индэстри Промоушен холл», остальное — Феникс из пепла — прямые проспекты, высокие дома, рекламы, пробки на улицах, и то тут, то там, на стенах, на крышах «No more Hiroshima!» — Больше никогда Хиросимы!
Война есть война. На войне убивают. Когда-то это делали на поле брани, опустив забрало, рубя мечом по латам или тыча в них копьем, стреляли из инкрустированных перламутром мушкетов, мушкетонов, аркебузов. Потом из пушек — маленьких, средних, наших трехдюймовых, французских «суасант-кэнз». Из Большой Берты. Потом появились бомбы — маленькие, средние, большие. С «Ильи Муромца», «Русского витязя», «Юнкерса-88», «Ту-2», «В-29». И, наконец, с этого же самого «В-29», «Энола Гэй», по имени матери полковника Пол Тиббетса. Это он в 8 часов 13 минут 30 секунд 6-го августа 1945 года отдал приказ своему бомбардиру майору Тому Фэрби, — не знаю, как он звучит по-английски, по-французски «A vous» — по нашему, очевидно, «Огонь!» Потребовалось четыре секунды, чтоб бомба, оторвавшись от самолета на высоте 30 тысяч футов, еще через сорок пять секунд взорвалась и... в истории войны началась новая эра.
Сколько раз задавали мы себе вопрос: а о чем он думал, этот самый Пол Тиббетс, когда продирал глаза утром того памятного всему миру дня, когда садился в самолет, когда отдал приказ, возможно даже, перекрестясь?.. И как ему жить после всего содеянного им? Обыкновенному американскому полковнику, получившему, вероятно, орден и ставшему потом, возможно, генералом, молодому человеку с совершенно человеческим, простым, даже симпатичным лицом, почти русским, сказал бы я. Не будь у него раздвоенного, очень уж американского подбородка, ну совсем наш, ни дать ни взять... Кто?
Кто?
А тот самый, который... Которые...
Вспоминаю наши «ИЛ-2» над Сталинградом. В первые месяцы. Как смело, бесстрашно они, два-три, максимум четыре, летели на немцев через наш Мамаев курган, а потом, не досчитываясь одного-двух, возвращались назад, над самыми нашими головами, изрешеченные, простреленные... Герои... Мы молились на них, вот это ребята!
Война есть война. И на ней убивают. Врага... А если не врага?
Мне рассказывала одна осетинка, а может, кабардинка или балкарка — не помню уже, нечто страшное. Ее вместе со всей семьей (отец ее был то ли секретарем райкома, то ли обкома) выслали в отдаленные края. В 24 часа... Так вот, она мне рассказывала, а я не верил своим ушам, что те аулы в горах, до которых трудно было добраться, просто разбомбили, Прилетели наши самолеты и сбросили бомбы на наших же людей. То ли осетин, то ли кабардинцев, то ли балкарцев — все они назывались изменниками, предателями, врагами народа.
Девять человек экипажа «Боинга», принесшего смерть Хиросиме, хорошо известны. Имена, фамилии, биографии, фотографии их были во всех газетах мира. Говорили даже, что кое-кто из них сошел с ума, чуть ли не сам Пол Тиббетс... Летчики. Солдаты. Солдаты выполняют приказ. И они его выполнили. Нанесли смертельный удар врагу. Японцы были врагами. Даже старики и женщины Хиросимы.
А старики и женщины тех самых аулов? Враги? Сталин сказал кому-то, что враги. И всех их надо выселить. А кого не удастся — уничтожить! И сели наши ребята в «Петляковых» или просто в ЯКи и полетели... И разбомбили. И вернулись назад. И, вероятнее всего, напились.
Кто они? И о чем они думали, когда летели? И когда возвращались? Когда пили? И не сошел ли кто-нибудь из них с ума? А может, их просто-напросто расстреляли. Чтоб не болтали. В те времена все решалось просто, оперативно, без особых колебаний...
Вот какие невеселые мысли теснились в моем мозгу, когда я сидел на лавочке и курил в Парке Мира разрушенного американцами и восстановленного японцами города Хиросимы и смотрел на косоглазых пузырей, ползавших у моих ног.
Так надо ли вспоминать о войне? Попробуй, не вспоминай.
Добравшись до этой — в рукописи шестьдесят второй страницы, я вдруг спохватился. Начал очень уж как-то заковыристо — дедушка Крылов, огурец, мост — расскажу, мол, такие небылицы, что глазам и ушам не поверите. А что я рассказал? Дополнил ли чем-нибудь Овчинникова? Нет!
И все же...
Накупив в аэропорту Нарита последние сувениры и садясь в самолет пакистанской авиакомпании Токио — Нью-Йорк через всю Азию, немножко Африки и Европу, усталый и набитый до горлышка впечатлениями, я задавал себе вопрос — ну что я вынес из всей этой поездки? Что нового узнал? Что поразило больше всего?
Отвечу кратко — много, очень много... И ничего.
Тем не менее...
Я увидел красивую страну с некрасивыми городами. И много красивого в этих некрасивых городах.
Я путался в бесконечных замысловатых переходах (куда там парижским или даже лондонским), тупо разглядывал бесчисленные, непонятные мне надписи и любовался каждой из них в отдельности.
Впихивался или был впихиваем в вагоны метро, прислушиваясь к треску своей грудной клетки, и поражался, почему у всех такие спокойные лица. Почему никто по-ихнему, по-японски, не матюгается или (не принято, допустим1) просто не выскажет своего недовольства.
Подымался по ступенькам храмов, удивлялся, упивался их красотой, вкусом их творцов, филигранностью отделки, иногда размерами и не понимал, как же все это строилось, как подвозилось, если сто с лишним лет тому назад неведомо было еще колесо.
Любуясь теми же храмами и зная, что японцы понимают красоту, как никто другой, задавал себе вопрос, почему токийские, осакские, нагойские небоскребы так некрасивы? Японцы если не великие изобретатели, то великие усовершенствователи, умеющие во всем переплюнуть всех, не смогли переплюнуть Манхэттен, — а тот, что там ни говори, красив, его сияющие, озаряемые вечерним солнцем, друг друга отражающие небоскребы ошарашивают, ошеломляют. Японские отталкивают, раздражают. И много их, и какие-то они одинаковые, невыразительные, одной высоты и сплошь усеяны рекламами, а сверху еще какой-то водонапорный бак. И это в стране Кендзо Танги...
Я не был ни в одном музее, ни в одной картинной галерее — первая страна, где нарушил установившуюся веками туристскую традицию, — не был, потому что сама страна интереснее тысячи музеев.
Я не только не привез в Париж, но и не познакомился ни с одной гейшей. А они есть. Я видел их в Киото, в узеньких улочках-коридорах вдоль набережной Камо-Гава, маленьких, изящных, с белыми от грима лицами-масками. Они быстро цокали мимо меня на своих деревяшках, не обращая на меня внимания, а мне с каждой из них хотелось выпить свои сто грамм саке.
Я пил это самое теплое саке во время многочисленных трапез, одна изысканнее другой, но ожидание этих трапез вызывало у меня ужас и содрогание — хотелось не отставать от других, есть палочками и сидеть на корточках, но палочки вываливались из рук, а от сидения на корточках тут же немели ноги и хватала судорога.
Потом, вечером, лежа в своем номере, я пытался вспомнить, что же я ел, что было рыбой, а что капустой, и все время чему-то удивлялся.
Удивлялся японской чистоте и порядку, хотя у какого-то американца или англичанина вычитал, что его поразила в Японии грязь и мусорные свалки на улицах.
Удивлялся тому, что французы собираются пустить свой сверх-блиц-экспресс Париж — Лион только через два года и много и не без гордости о нем пишут, а у японцев он уже пятнадцать лет как ветром несется по своей эстакаде.
Удивлялся, как это все у них получается, когда кроме рыбы и вулканов ничего у них нет, все надо ввозить. (Фудзиямы, кстати, тоже нет, ее придумали Хокусаи. Уверяю вас. Кто ее видел? Я, например, нет. Все врут. Для заманивания туристов...)
Удивлялся, почему они все поголовно грамотны, даже какой-нибудь нищий (понятие условное) крестьянин из «глубинки», когда, по моему усмотрению, чтоб выучиться японской грамоте и разобраться во всех их иероглифах, надо по меньшей мере быть ученым-лингвистом, да еще и выдающимся.
Всему этому я удивлялся, от чего-то приходил в восторг, от чего-то не приходил, пожимал плечами, но главное, я так и не узнал, не узнал японца.
Я познакомился с ними. Бродил по всяким закоулкам и залитым неоном авеню, поклонялся таинственно-непонятному мне гигантскому Будде Дайбитсу в Камакуре, внутри которого лесенка и за сколько-то там иен можно по ней подняться, окунался в глубь веков, простым зевакой присутствовал на японской свадьбе, — красивее не видел, — покупал ненужности в книжных и антикварных лавках Гинзы, токийского Бродвея, вкушал яства и что-то пил в экзотических кабаках — в одном из них два бойких, крикливых повара, сидя посреди посетителей, на длинных палках подают всяких там кальмаров и крабов, спускался в трюм и взбирался на мостик немыслимых размеров танкера в сухом доке, с трудом, но без всяких эксцессов пробивался сквозь веселую толпу какого-то карнавала в районе Асакуза, покупал талисманы и гороскопы у старых монахов в древнем монастыре (с двумя молодыми даже снялся), в двух японских домах ночевал, в одном из них угощаем был такой жареной говядиной, какой ни в одной из Европ не едал, а с милыми Торэ и Наоми Кавасаки веду до сих пор переписку, но... Ни к кому из них в то, что называется душой, не заглянул.
___________________
1 Как обрадовался сидевший в советском плену мой новый токийский друг Утимура, когда услышал в моем исполнении несколько весьма типичных русских нецензурных выражений... Спасибо, напомнил, совсем отвык.
Говорят, японец загадка. Он и такой, и сякой. Вежливый и грубый, коварный и добрый, лицемерный и дружелюбный, жестокий и ласковый. Не знаю. Возможно. Те, с которыми я сталкивался, были внимательны и обходительны. Но эталоном японца они никак не могут быть — все же интеллигенция, той или иной стороной прикасавшаяся к русским, к России, Советскому Союзу.
Как ни странно (все-таки больше воевали, чем дружили), но к русским у японцев симпатия. И интерес. Виноваты в этом, конечно, и Толстой, и Достоевский, и Чехов, и Гоголь, а теперь еще и Солженицын, но, кроме этого, есть еще и другое, что объединяет всех, поголовно всех, японцев — ненависть. Нет, не к русским, к Советскому Союзу. И всему виной не войны, не различие систем, а паршивых три островка, самые южные из Курильской гряды — Кунашир, Шикотан и Эторофу.
Что такое государственная мудрость? Очевидно, действия и поступки, которые государству выгодны и полезны. Возможно, выгоден и полезен в каких-то случаях (я не говорю законен) захват чужой территории. Тебе тесно, а соседу просторно, вот и откуси от него кусок. И откусываешь. Иногда это называется захватом и разбоем, иногда воссоединением, но элементы какой-то логики в этих акциях всегда есть — отодвинуть границу, захватить плодородные земли. В захвате же этих трех крошек, отстоящих от берегов Японии на каких-нибудь 80 километров, логики никакой. Ракеты, могущие стереть Японию с лица земли, растыканы в астрономическом количестве по всему Приморью, Камчатке и на остальных островах Курильской гряды — зачем же еще эти три? А вот за тем! Захватили, и все! Они наши! На веки вечные! И не ваше это дело...
Не наше? Ладно. Подписываем мир с Китаем. И торгуем тоже с ним. А могли бы всю вашу Сибирь накормить. И в изысканиях помочь, руду какую-нибудь найти...
Из друга, мирного соседа, сделали врага, ненавистника. Собственными руками... Государственная мудрость.
Но вернемся к душе, в которую я так и не забрался. Впрочем, стоит ли? Я вот уже сколько лет живу во Франции, а что я знаю о французе? Прижимистый, сантимщик, тушащий за собой на каждом шагу электричество, собственник, думающий только об уикэнде? А вот и нет! Мои французы не такие. И в Париже, и в маленьком Альткирше, и в совсем крохотной деревушке Эгалье, затерявшейся среди холмов Прованса, в которой и пишутся эти строки. Уик-энд уик-эндом, но когда доходит до дела, до помощи, лучших друзей не надо. А мне говорят: сантимщики... Настанет время, и о них расскажу. (Вспоминаю своего истинно русского дядю, какого-то там троюродного, знаменитого на всю округу и весьма состоятельного врача-окулиста, жившего в Миргороде. Иногда он приезжал в Киев. «Тетка, а тетка? — говорил он бабушке. — Куда деньги девать? А? Посоветуй, отберут же». Мне, десятилетнему пацану, он как-то подарил набор мужских, стоячих, крахмальных воротничков. После его отъезда в уборной всегда обнаруживались шкурки от винограда, который он в одиночестве поглощал, взгромоздившись на унитаз. Дело происходило в 20-х годах...)
Итак, решено, не будем возвращаться к душе. Бог с ней. Потемки, Загадка. И не только японская, но, как видим, и наша широкая, русская. Оставим же ее в покое, хотя очень хотелось бы заглянуть в нее у какого-нибудь рядового камикадзе... Или у самурая, схватившего меч, чтобы воткнуть его себе в живот.
Всего этого я не узнал и, очевидно, никогда не узнаю. А красоту увидел. И чужую жизнь, в общем-то не такую уж тяжелую, при всех инфляциях и землетрясениях. Во всяком случае, куда более счастливую и светлую, чем в стране, которую я покинул навсегда.
Что же я все-таки вынес из поездки?
Первое и самое важное — как приятно летать по белу свету. Второе — как много еще на этом белом свете глупостей. В Бангкок и Гонконг меня не пустили по моей собственной глупости — не обзавелся визой. А вот в Карачи или Исламабад меня не пустили бы, а в Париже, пакистанском консульстве, просто не выдали бы визы по той простой причине, что в моем «титр-де-вояже» есть штамп тель-авивского аэропорта. Этого достаточно, чтоб запретить тебе въезд в страну, кем бы ты ни был, хоть папой римским.
И третье, очень важное. Вернувшись домой и взяв в руки карандаш, знаешь, что обо всем, что ты видел, можешь рассказать так, как хочешь. Не озираясь, не прислушиваясь, не ставя перед собой задачи кого-то разоблачить или доказать чье-то над кем-то превосходство, не боясь сказать глупость, показаться недостаточно ученым, левым, правым или Бог знает еще каким. Кое-кому, знаю, не понравится — шляешься, мол, по парижским кафе, обжираешься какой-то там невиданной колбасой. Ну и шляйся, объедайся на здоровье, но писать зачем об этом, а нам, жителям Торжка, где и слово-то это — колбаса — забыли, читать об этом? Знаю, знаю, все знаю и именно то, что знаю и все-таки могу писать все, что захочу — ну разве не стоит для этого жить?
Вот и Англию вдруг вплел в рассказ о Японии. В разных концах света, разительно не похожи, а общее что-то есть, вот и вплел. К тому же, в одну попал сразу после другой. Обе расположены на островах, обе отрезаны от континента. Обе они монархии, и в обеих монархи более или менее декоративны. Обе в свое время не прочь были позариться на чужие земли. Обе могут похвастаться успехами в мореплавании. В технике тоже. Ну и еще что-то там. Но главное, что их сближает, — это любовь к традициям.
И тут я спешу оговориться.
Да, традиции. Освященные веками, незыблемые. Подушка с шерстью ,под седалищем спикера в Палате Общин, запрет королеве въезжать в Сити без особого на то разрешения Лорд-мэра, обязательное разувание у японцев перед входом в дом, выбор жениха и невесты родителями у тех же японцев (традиция, несколько нарушаемая в последнее время), ну и т.д. и т.д., всех не перечислишь. И все же — об этом очень точно писал в свое время Евг. Туровский, мой земляк-киевлянин и великий знаток традиций — и японцы, и англичане по живучести и закоренелости традиций не идут ни в какое сравнение со страной, впервые в мире построившей социализм.
У японцев и англичан истоки традиций теряются где-то в седой старине, сейчас они вызывают часто только улыбку, у нас же нарушение их может вызвать нечто более серьезное, чем улыбка. Попробуй какого-нибудь седьмого ноября повесить на фасаде дома портреты руководителей не в том порядке, как положено. Или вписав, допустим, Сахарова в избирательный бюллетень, зайдя предварительно под враждебно и тут же засекающими взглядами в кабину, находящуюся в противоположном конце помещения, потом под этими же взглядами подойти к урне и опустить бюллетень. Попробуй, нет, не из озорства, а просто для разнообразия, повесить на своем доме лозунг, ну, допустим, «Да здравствуют трудящиеся острова Пасхи!», о которых почему-то ничего не сказано в призывах, опубликованных в «Правде». Попробуй, если ты женщина, зайти в ЦК, нет, даже не партии, а комсомола в брюках (в райком, может, и удастся, там нет охраны, а в горком или обком уже, думаю, не пустят). Попробуй не подписаться на «Правду», если ты член партии. (Помню некое партбюро, где зачитывался длинный перечень нарушителей традиции, подписавшихся на журнал «Америка» и «Веселые картинки», упустив, по оплошности, «Правду». Все сидели с виноватым видом, опустив глаза.)
Список можно продолжить, но об этом, повторяю, очень хорошо и убедительно написал когда-то в «Посеве» Евг. Туровский, не буду повторяться. Короче — за ними, как всегда, не угнаться, мы всегда, во всем первые. И в лилипутах, если помните, тоже. У нас самые большие.
Вот о чем я думал, глядя в иллюминатор на проплывающую подо мной пустыню Гоби, отроги Гималаев и мечети Равалпинди и Исламабада. Только на какой-нибудь час течение этих дум было прервано посадкой в Пекине.
Сразу скажу — нигде и никогда за годы моей эмиграции не чувствовал я себя так «дома», как на аэродроме столицы когда-то самой братской державы. Еще снижаясь над ним, я ощутил нечто родное. Само здание сразу напомнило старое Внуково. Симметричное, с двумя крыльями по бокам центрального вестибюля и громадным портретом вождя в центре. Внутри его же — Мао Цзе-дуна — скульптура, под которой я, конечно, снялся. Снялся и под квадригой Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин, той, что сопровождала всю мою юность и годы зрелости. Сближали со Внуковом и русские надписи — вход, выход, почта, банк. Ну, и относительная, скромно выражаясь, пустота в киосках — сигареты, чай (жена, правда, не нахвалится) и веера. После токийской Нариты скудновато. Оставил я себе на память и сколько-то там юаней с колхозницами, сталеварами и тракторами.
Не без улыбки разглядывал я китайцев в белых навыпуск рубашечках, тысячами заполнивших длинную террасу, выходящую на летное поле. Так и мы когда-то в том самом еще не стеклянном Внукове с любопытством и затаенной завистью глядели на «Каравеллы» Air-France, TWA, SAS, Sabena...
Потом пешочком, через все поле (никаких автобусов!) пошли мы к своему самолету. Там поджидали уже нас два симпатичных косоглазых сержантика, державших стопки наших паспортов — находите свой сами. Сразу отлегло от сердца. (Когда отбирали, что-то екнуло.)
Рассказом об этом часе, проведенном на китайской территории, я мог бы ответить на тот самый последний из вопросов, который я задал самому себе — что меня больше всего потрясло? Свобода и непринужденность, которую я почувствовал на этом, правда, ограниченном, куске территории самого большого в мире коммунистического государства — и в самом здании, и на летном поле, и на прилегающем к аэровокзалу бульваре никто не остановил, не спросил, не окликнул. Ходи себе и ходи... Пожалуй, именно это — сочетание советского духа с неожиданной «свободой передвижения» по аэродрому поразило меня больше всего в этой поездке. Ходи, куда хочешь.
Мой женевский друг и ангел-хранитель, часто летающий по делам службы в Японию и почти всегда через Москву (дешевле и скорей), рассказывал, что в Шереметьеве из интуристского зала выйти никуда нельзя, позвонить тоже (не то что в Женеву, но и в Москву), в киосках только «Столичная» и матрешки и никаких газет. В окна смотреть, правда, разрешается. Вот как мог бы ответить я на поставленный вопрос — что меня больше всего поразило. Но так как очерк мой посвящен все-таки скорее Японии, чем Китаю, на прощание спою дифирамб японской фирме «Тото», фирме унитазов.
В соответствующем учреждении гостеприимного иокогамского дома, давшего мне приют, меня не на шутку встревожило отсутствие туалетной бумаги. После вынужденной и несколько смутившей меня консультации все с теми же женевскими друзьями я понял, что она, бумага, просто не нужна. Поворотом специального краника внизу унитаза ты вызываешь струйку теплой воды, а поворотом в другую сторону дуновение такого же теплого воздуха. Вся операция длится не более полуминуты.
Интересно, есть ли нечто подобное у Жискара или у Картера?
* * *
Тут бы и поставить точку, на все вопросы вроде бы ответил. Но еще на одном, не очень существенном, но все же любопытном событии хочу остановиться.
Место действия — гостиница «Хокусай», в городе Сакаидэ на острове Щикоку. Утро.
Я спускаюсь из своего номера вниз, в гостиничный холл, выпить чашечку кофе с гренками и апельсиновым джемом. По-французски это называется «Пти-деженэ» и входит в оплату номера. Мои женевские друзья уже за столиком. Она — любительница японской кухни, ловко орудуя палочками, безжалостно нарушает безукоризненно-совершенную композицию из непонятных, но таких красивых, разноцветных ингредиентов, разложенных перед ней на подносе, он, отхлебывая из пиалы кофе, погрузился в «Джепэн тайме». Кроме них никого нет. Тихая музыка. Японская, очень мелодичная. Мальчик-портье кому-то что-то негромко отвечает по телефону. Тихо. Пусто. Постояльцев в отеле мало. Приезжавшие вчера на какую-то свадьбу — негромкие, без конца друг перед другом раскланивавшиеся, — рано утром сегодня уехали.
Хорошенькая официантка в кимоно, с кофейником и чайником в руках, интересуется, из какого из этих сосудов мне налить. Я прошу кофе. Намазываю джемом хрустящие, горячие еще гренки.
И вдруг:
— О! В «Джепэн тайме» кое-что и о тебе...
Мой друг протягивает мне газету... Оказывается, мне хватает моего английского, чтобы понять, что в «Ведомостях Верховного Совета СССР» опубликован Указ о лишении меня советского гражданства. Формулировка все та же, что и у Максимова, Ростроповича, Вишневской, генерала Григоренко, Оскара Рабина — «за деятельность, несовместимую с...»
Мы, трое русских постояльцев гостиницы «Хокусай», в городе Сакаидэ, на острове Шикоку, оторвавшись от кофе и прочих ингредиентов, некоторое время обсуждаем это событие, потом садимся в вызванное по телефону такси и отправляемся на судостроительную верфь «Кавасаки» — мой друг должен принять отремонтированный там танкер под названием «Гортензия», а я просто посмотреть на верфи и танкеры — никогда этого еще не видел.
Ни гнева, ни возмущения, ни огорчения, никакого другого вида эмоций прочитанное мною сообщение агентства Рейтер во мне не вызвало. Впервые узрел я в поступке правителей моей страны некую логику. Человек, позволяющий себе открыто, устно и письменно, осуждать их поступки, не может оставаться гражданином страны, которой они руководят. Он наносит ей, вернее, им, вред — его надо отвергнуть. Вполне логично. Я за логику. Почему только так долго тянули, целых пять лет? На что-то надеялись?
В моей же жизни акция эта ничего не изменила. Ни в мыслях, ни в поступках, ни в душевном состоянии. Как был я русским, таким и остался, какой бы ни носил в кармане документ. А в том невеселом, что происходит сейчас на земном шаре, меня в первую очередь интересует, волнует, огорчает, порою бесит, но иногда внушает и надежды, это то, что происходит в России.
Люди, приезжающие оттуда, кто навсегда, кто на побывку, ничего радужного с собой не привозят. Тоска и муть. И все же в беспросветности этой нет-нет да и блеснет какой-то лучик. Для меня этот лучик — письма от Славика Глузмана. Жив, здоров, относительно, конечно. Работает. В колхозе, диспетчером. Женился. Получает много писем. Постепенно — нелегко это — адаптируется, привыкает к новой жизни.
На карте мира, висящей у меня на стене, я красным карандашом подчеркнул — Тавда. А рядом, очевидно, и Нижняя Тавда, где живет в ссылке Славик. Это за Уралом, Тюменская область. Зимой там холодно, и мы посылаем ему теплые вещи. Кажется, доходят.
Последний раз послал по почте цветные фломастеры. Дочке. Ей шесть лет, рисует. Как приятно было надписывать на конверте: почта, до востребования, Семену Фишелевичу Глузману. Семь лет мы были лишены этой возможности. Сейчас она есть. Ну, разве это не светлый луч?
А впереди?
Я все-таки верю в хорошее — при всем при том...
Часть 2
Не говорите мне: «Он умер». Он живёт!
Пусть жертвенник разбит — огонь ещё пылает,
Пусть роза сорвана — она еще цветёт,
Пусть арфа сломана — аккорд ещё рыдает!..
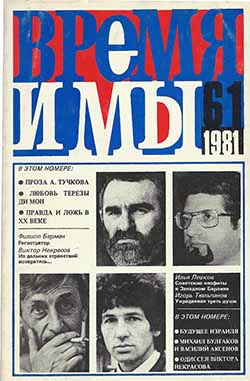 Да, Надсон! Тот самый. Голубые и розовые листочки в альбомах московских и петербургских девушек из интеллигентных семейств. Красивый, чахоточный еврейский юноша с печальными глазами. Властитель дум. Пал, оклеветанный молвой. В двадцать три года...
Да, Надсон! Тот самый. Голубые и розовые листочки в альбомах московских и петербургских девушек из интеллигентных семейств. Красивый, чахоточный еврейский юноша с печальными глазами. Властитель дум. Пал, оклеветанный молвой. В двадцать три года...
Кто его помнит?
Я снимаю с полки такой знакомый, в сером с тиснением переплете, томик. Листаю. Читаю. Что-то вспоминаю. Очень отдаленное.
Такой же томик стоял у нас в книжном шкафу. Рядом с Тютчевым и Фетом. Никого из них я не читал. Мне было скучно. Я не любил читать про любовь. И про жертвенники и арфы тоже. Пушкин и Лермонтов стояли на другой полке, — их я еще признавал. С Тургеневым, — полкой ниже, — совсем было плохо. Мы его «проходили», «Записки охотника». А мне нужны были не охотники, а траперы, не двустволки, а винчестеры...
Вот он тоже стоит. «И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений». И опять-таки в тех же «сойкинских» переплетах, красных с золотом.
Хорь и Калиныч... Касьян с Красивой мечи. Сажусь с ними вместе в саду, на лавочке, под сень чего-то, — нет, не эвкалипта, он тени не дает, — и пытаюсь с ними помириться. После первой ссоры, ну, не ссоры, просто взаимной антипатии, впервые за пятьдесят с чем-то лет, протянули друг другу руки.
И скамейка, и сад, и сам дом с Тургеневым, как далеки они от Орловской губернии. За тридевять земель. За морями-океанами.
В этом доме все русское, — книги, иконы, котлеты, первое, что вижу, когда просыпаюсь, — Киевская София с Богданом на противоположной стенке. И хозяйка дома русская. В восемь утра стук в дверь. Вносится поднос с утренним кофе.
— Больше вам ничего не нужно?
— Нужно.
— Что?
— Ваше общество.
— О-о... Сейчас я подам Клему кофе, он еще бреется, и приду.
За окном видны березки, — по ним принято почему-то скучать, а они есть везде, даже здесь, где все наоборот. На перилах деревянной лесенки вьются настурции.
Пьем кофе. Говорим о чем-то русском. Если не о русском, то о чем-то, что русскому уступает.
Дни стоят прозрачные. Тихая, золотая осень, последние дни апреля. А в Париже, — я звонил туда, — весны все еще нет, холодина. Здесь теплынь, хотя апрель — осень, июнь — зима.
— Принести еще кофе?
— Принести.
— А может, я вам мешаю? Вечером вам выступать, а я тут...
— Так то вечером и в городе. А сейчас мы здесь, в Подмельбурнье, в Переделкино. Тут положено беседовать (чуть не сказал «трепаться», но при Нине Михайловне я пытаюсь обходиться без этих арго и сленгов, как здесь называется наш «треп»).
Мы продолжаем пить кофе, пока не настает время кормить Клема.
Что вам больше всего понравилось в Японии? На Гавайях? В Австралии?
О Японии говорил. О Гавайях скажу. Об Австралии же...
В те далекие траперско-винчестерские годы все рисовалось так (будь то Ориноко или Замбези, Тимбукту или Бенарес, до Австралии почему-то мои Жюль Верны, Майн Риды и Буссенары не добрались) — пробковые шлемы, этот самый винчестер, вьючные мулы, носильщики с тюками, джунгли. Опасность на каждом шагу. Аллигаторы, индейцы, кураре...
На смену Ориноко пришла река Св. Лаврентия, Клондайк, салуны, Смит и Вессоны такого-то калибра, золотой песок, тяжелые кулаки, риск, кровь.
(Никакого риска и крови, но сотни приехавших из Мельбурна туристов сидят на корточках возле ручья и что-то в тазиках промывают. Это Соверен Хилл, золотоискательский поселок возле Балларата — в середине прошлого века именно здесь обнаружено было золото, и Австралию охватила нормальная золотая лихорадка. Золота давно нет, но Соверен Хилл сохранили с милым ароматом тех лет.)
С возрастом топот мустангов постепенно вытеснился мягко шуршащими по гравию шинами Роллс-Ройсов.
О, эти Роллс-Ройсы...
Сохранилось, но, упаси Бог, никому не показывается, некое произведение под названием «Так погибла Конкордия», — автору тогда было лет двадцать, не больше. Роллс-Ройсов, правда, нет, но есть шикарные каюты «пакетбота», у героя шелковые усики, а некий мсье Карро, аферист и жулик, живет на рю Сан-Лазар, и окна его комнаты выходят на маленькую площадь перед церковью Нотр-Дам-де-Лорет — Господи! ту самую, мимо которой я битых три года ходил, когда жил еще на рю Ла Брюер.
Произведение, слава Богу, не увидело света.
К чему я все это, к чему мягко шуршащие шинами Роллс-Ройсы, которых никогда в жизни не видел? (В Киеве был один-единственный интуристовский «Линкольн» с борзой на радиаторе, мы им гордились не меньше, чем магазином известной шарикоподшипниковой фирмы SKF на Николаевской и первыми автобусами «Даймлер-Мерседес» с невиданными до той поры складывающимися дверцами.) Всю эту артподготовку я провел, чтобы ответить на самый что ни на есть банальный вопрос — что меня больше всего поразило в Австралии? Фауна, флора, музеи, аборигены?
На всех дорогах есть знаки с изображением кенгуру, он, мол, может выскочить из кустов, остерегайтесь. Я каждый раз вытаскивал фотоаппарат, но встретился с этим забавным и приветливым животным в обыкновенном зоопарке, (?) и называется он Национальным парком. Милую, трогательную, задумчивую, несуетливо жующую зеленый листок коалу тоже взял из рук зоопарковского сторожа.
Нет, не они пронзили мое сердце.
И не аборигены, живущие где-то на севере, — белые австралийцы всегда слегка смущаются, когда о них заходит речь, — увиденные же мною вылезали из лимузина, который (?) снился и самому Евтушенко или Олегу Попову.
И не заманчивый с детства Южный Крест, оказавшийся жалкими пятью звездочками, сразу и не увидишь, (?) тебе не растолкуют, — вот от той яркой звездочки налево, видите?
Нет, поразило больше всего и манило, тянуло и вспоминается сейчас с особой нежностью небольшое местечко, городок в тридцати милях от Мельбурна, именуемый (?) или Эль-тем (Бог его знает, как по-русски читается английское th). От маленькой, тихой станции, до которой на электричке полчаса (единственное неудобство, — всенародная борьба с никотином, — на всех вагонах ненавистное «no smoking»), поднимаешься в гору, сворачиваешь налево и попадаешь в очаровательное поместье с обнадеживающим названием Стенхоп («хоп» — по-английски «надежда»). Там-то, в этом поместье, среди цветущих кустов неведомо чего, в домике, набитом русскими книгами, и живет та самая Нина Михайловна, которая в восемь часов деликатно стучит в дверь и вносит поднос с дымящимся кофе.
— Вот здесь вы будете жить, — сказано было мне, когда я впервые переступил порог этого дома. — В комнате покойной мамочки. Никто вам не будет мешать. Вот умывальник, душ, полотенце. Отдыхайте.
Мамочкина комната вся из окон — и туда, и туда, и туда. За окнами сад. На столах, тумбочках, комодах мамины штучки, бирюльки, фотографии прошлого века. На стенах никаких «абстрэ» (на Западе, диком и недиком, не найдешь дома без них), здесь уютный реализм наших дедушек и бабушек. Ну, и книги. Везде. Как у нас до войны, только у нас были книжные шкафы, а здесь полки, — теперь у всех полки, — а на них книги, те же книги, что и в домах средней, дореволюционной интеллигентской русской семьи.
(Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает...)
Кто же она такая, эта самая Нина Михайловна Кристисен, в девичестве Максимова? Мне повезло — я попал как раз на Пасху. На куличи съехались поклонники их и Нины Михайловны не только из Виктории, но и из Аделаиды, Квинсленда и даже черный-черный абориген из Северной Территории специально приехал похристосоваться.
Откуда такая любовь? Говорю, не смущаясь и не боясь пышных слов, — она душа, сердце, вдохновитель и организатор первого русского факультета (по-здешнему департамента) в Австралии — в Мельбурнском университете. «Да что вы, что вы, — замашет она руками, — до меня еще...»
Не слушайте ее, — что там было когда-то, не знаю, а что душа и вдохновитель — знаю, видел и чувствовал на каждом шагу.
Живет Нина Михайловна в Австралии спокон веку. Сейчас в отставке. Но с университетами — обоими мельбурнскими, канберрским и сиднейским не порывает — везде друзья и поклонники. Родом сама из так называемой Харбинской эмиграции. Отец ее был капитаном то ли на Амуре, то ли на Уссури. Потом гражданская война. Харбин, Япония, Австралия. Монархист до мозга костей, он долго не разрешал ездить дочери своей к этим «товарищам, узурпировавшим власть» (а ей ужасно хотелось если не к ним, то в узурпированную ими страну), и только благодаря хитрости друзей удалось папочку обвести вокруг пальца. Организовано было приглашение от самой английской королевы погостить с месячишко в британском посольстве в Москве. Папочка был польщен и сдался.
Чем-то Нина Михайловна напоминает мне мою мать. Маленькая и неутомимая. «Сейчас принесу... Мигом!.. Минуточку!» Как и у моей матери, в словаре ее нет слов «схожу, пойду», только «сбегаю, галопом». И действительно, бежит, быстренько-быстренько, не успеешь возразить.
Кроме того, она страдает каким-то комплексом альтруизма — любит доставлять вам приятное. Таким приятным, преподнесенным мне, была поездка по восточному побережью. Так получилось или было подстроено, но как раз, когда мне надо было возвращаться из Сиднея в Мельбурн, выяснилось, что они с мужем тоже едут и у них машина, и они очень рады были бы, если б я согласился...
И мы поехали. Не торопясь, с заездами на пляжи, купаниями, ночевками в придорожных, дешевых мотелях (дешевые, но и телевизор, и вентилятор, и все до кастрюлей, сковородок, посуды, чая, сахара, соли, перца, кофе — включительно) или у друзей в бунгало с раздвижными стеклянными стенами.
Правил муж, Клем, она же снабжала нас орешками и совала в рот бананы, но, в основном, волновалась, что мы что-то пропустили, не увидели, прозевали. Особенно огорчало ее то, что мы с Клемом, разъединенные языками, не могли поговорить («а он так любит, так любит...»). Клем — очки, высокий лоб, седая борода клинышком, такими в кино изображают заслуженных профессоров, — личность выдающаяся. В прошлом редактор наиболее солидного «толстого» журнала, одно время достаточно левоватый, приглашаемый в Советский Союз и там ублажаемый, сейчас свои позиции несколько пересмотрел — одним словом, поговорить нам было о чем. Но не получалось. И он раздражался. Потом малость прихворнул, и остаток пути мы проделали уже без заездов на пляжи, пустынные, девственные, на десятки километров тянущиеся вдоль Тасманова моря (оно же Индийский океан), полные не только ракушек, но и облепленных ими водорослей, которые я, старый псих, старательно высушив, привез, конечно, домой. Теперь они развешаны по стенам и книжным полкам, единственный вид абстрактного, хотя и рожденного морем, искусства, допускаемого в мое жилище.
Пляж — моя слабость. С детства. С Ворзеля. С ворзелевского пруда, очень поленовско-левитановского, с островком посередине. Доплыв к концу лета до него (а до этого вдоль берега от кусточка до кусточка), я впервые понял, что в преодолении препятствия есть что-то манящее. Преодолев потом, лет в пятнадцать или шестнадцать, Днепр, я еще больше укрепился в этом мнении. Преодоление было героическим, — пришлось поднырнуть под неожиданно появившимися на моем пути плотами. (Вскочить и пробежать по ним было бы нарушением условий, а переждать — снесло бы к мосту.) С годами вид и характер встречавшихся на моем пути препятствий изменился, но более или менее удачное преодоление их я всегда связываю с теми самыми плотами на Днепре. Это был первый преодоленный барьер.
На смену Днепру пришло море, Черное море. (Только Эгейское у греческих островов может в какой-то степени с ним сравниться.) В отрочестве Алушта, раскаленная галька Профессорского уголка, заплывы до горизонта; в послевоенные годы божественный Коктебель, — единственный географический пункт Советского Союза, по которому по-настоящему тоскую. Первый утренний заплыв (нет, уже не до горизонта), где-нибудь возле могилы Юнга, а потом часик-полтора до завтрака, наедине с солнцем, прибоем, Хамелеоном — налево, Кара-Дагом — направо. Лежишь, о чем-то думаешь...
Моя приятельница, сторонница активного отдыха — «Пошли на Кара-Дат! Айда в Мертвую бухту!» — избранный мною вид отдыха окрестила метким словом «сменолежбищье» — утром валяется на пляже, потом завтракает, опять загорает на пляже, обедает, спит под кустом, ужинает, иногда ходит в кино и ложится спать. Что ж, кому Кара-Даг, а кому погреть старые кости. (Впрочем, когда они были не так стары и кровь в жилах еще играла, довольно бойко прыгал со скал, а 10 апреля 1944 года, в день освобождения Одессы, скомандовал: «Раздеться! За мной!» — и, заражая бойцов личным примером, ринулся в довольно-таки ледяные волны вновь обретенного моря.)
Сейчас география моего любимого занятия (по-неаполитански «дольче фарньенте» — сладкое безделье) несколько расширилась. В Сиднее ездил на небольшой, уютной Бель-мораль-Бич. Пугали акулами, даже какие-то сети показывали, но я не из пугливых, к тому же одна мысль о возможной гибели русского писателя не на дуэли, не от запоя и не в лагере, а в зубах прожорливой акулы вызывала во мне противоестественное желание с ней встретиться.
Нокаутирован я был Гавайями.
Кто в Союзе знает, что такое серфинг? Уверен, что никто, кроме разве что сотрудников «Советского спорта». На западных пляжах все увлекаются сейчас так называемыми — planche a voile — не знаю, как это по-русски будет — дощечками под парусом. На них довольно быстро носятся, подгоняемые ветерком, по спокойной глади Лазурного берега или Сиднейской бухты.
Серфинг — это та же дощечка, только без паруса. И занимаются этим спортом отнюдь не на глади, а на волнах, достигающих иной раз пяти-шести метров. Такие волны есть в Калифорнии, на севере Австралии и самые шикарные на Гавайях, на северном побережье острова Оаху, где и проходят наиболее ответственные международные соревнования.
Что вытворяют на этих соревнованиях лихие ребята, знаю только по фотографиям, но даже то, что я видел на пляже Уайкики в Гонолулу, вызвало во мне приступ чернейшей, злейшей зависти. Боже, как завидовал я этим ребятам...
В Коктебеле мы тоже любили нырять в набегавшие волны прибоя, даже довольно большие, и, кувыркаясь в них, орошаемые мокрой галькой, испытывали неизъяснимое наслаждение. Иногда выкарабкивались, прихрамывая, с синяками.
О! Были б в моей молодости эти дощечки, я б, при всем своем безразличии к спорту, и волны нашел бы соответствующие и, ручаюсь, был бы не последним на их пенистых гребнях. Сейчас же сижу на своем диване и пускаю слюни, глядя на вырезанные из гавайских журналов сногсшибательные фотографии, растыканные по книжным полкам, — один там даже улыбается из-под девятого вала и показывает мне пальцами — V — победа!.. Эх-х... И зависть грызет. В Гонолулу мимо меня протопала пожилая, приблизительно моего возраста, дама с этой самой дощечкой под мышкой. Куда ты, ну, куда ты, старуха? А старуха спокойно вошла в воду, легла на дощечку животом, предварительно прикрепив ее тросиком к щиколотке и, шлеп-шлеп, поплыла туда, в даль, где загорелые хлопцы прыгали на волнах. И, что ж вы думаете — тоже запрыгала... Кажется, я заплакал...
О нем еще будет, об этом прославленном на весь мир пляже Уайкики, — запомнился он мне навсегда не только благодаря своим дощечкам, — сейчас же вернемся назад, в Австралию. И если не к самой миссис Кристисен, с которой расстались где-то на побережье Индийского океана (не сомневаюсь, что и она, нажми я на нее поэнергичнее, с неменьшей отвагой зашлепала бы на той дощечке), то к другой миссис, на противоположном конце материка, которая вправе обидеться на меня за неумеренные (на ее взгляд) славословия по адресу Нины Михайловны.
Это она, несколько пополневшая и поседевшая, кинулась ко мне на аэродроме города Перт.
— А этого молодого человека узнаешь?
— Ха-ха, — сказал я, а может быть и более выразительно, поскольку этого не такого уже молодого человека с бородкой последний раз я видел, когда ему минуло один год. Прошло с тех пор...
Когда же все это было? И было ли вообще?
Киев. Довоенный Киев...
Никаких еще в нем двух миллионов, как сейчас, и никаких высотных зданий, и памятников Ленину (сейчас их аж два на одном Крещатике), и этот самый Крещатик ничего еще не знал об ожидающем его пожаре, и было на нем только четыре новых здания — Дом трестов, почтамт, Еврейский (!) театр и универмаг, а остальное все старое, низкорослое, но такое привычное.
И жили в нем мальчики и девочки, весьма интеллигентные и целеустремленные. И ходили они по вечерам в театральную студию при Театре русской драмы. Если вам случалось проходить после семи вечера по Пушкинской улице, вы могли увидеть их на ступеньках актерского подъезда. Весело болтая, покуривали они в своих бородах и костюмах из «Пугачевщины» и в пестрых камзолах «Благочестивой Марты». Обнаружили б вы тогда среди них и меня с НаниноЙ Праховой.
И происходило все это в незабываемые тридцатые годы нынешнего столетия.
Вопрос, который часто слышу сейчас, — как же мы, молодежь тех лет, пережили эти самые страшные тридцатые годы?
А вот так вот — пережили. Стояли в очередях за маслом и восторгались челюскинцами. Ходили в вельветовых толстовках и тапочках, а летом с рюкзаками за плечами отправлялись на Кавказ. Где-то совсем рядом пухли с голоду крестьяне, а мы прорабатывали исторические решения очередных съездов, тут же забывая, о чем там шла речь. Читали Хемингуэя и чего-то там возились в кустах на днепровских откосах. Нам было по двадцать лет.
Да, но... В девятнадцать лет был уже написан «Демон», Писарев и Надсон — оба умерли, не дожив до двадцати пяти, Якир в двадцать с чем-то командовал уже дивизией.
Что ж, на ступенях Русской драмы сидели другие ребята других судеб, других задатков.
А теперешние двадцатилетние?
Дома — пьют по-черному. Хуциевские «Мне двадцать лет» талантливая и трогательная идеализация, а ерофеевские «Москва — Петушки» или совсем недавно появившаяся «Алкоголики с высшим образованием. Картины народной жизни» Ник. Вильямса отнюдь не преувеличение. Увы, но это так.
А здесь, на Западе?
Пройдите вечером по бульвару Сен-Жермен. Столики, столики, столики прямо на тротуаре. А за ними такие молодые, красивые, изящные, беспечные что-то там сосут, улыбаются, острят... А ведь где-то Афганистан, Камбоджа, Хомейни, умирающие, похожие на зародышей дети в Уганде. И об этом не молчат, пишут, сотни жутких фотографий в разных «Пари-матчах», каждый вечер телевидение... А они, расплатившись, сядут в свои «Пежо» и «Рено» и такие же веселые, раскованные, легкие покатят куда глаза глядят...
Ну, а бывшие хиппи или нынешние «панки» и «autonomes», скандальные хулиганы на мотоциклах, бьющие витрины? Или идейные террористы бандеровского толка? Даже в тихой Швейцарии строятся баррикады и летят камни в полицейских. Что ж, есть, увы, и это. Некая полуинфантильная, полуфашистская форма протеста. Как кто-то печально сострил — «...Разрушим — до основания, а затем???» — с тремя вопросительными знаками. Но в основной своей массе, подавляющей, бульвар-сен-жерменской, и вовсе не плохой, идеал — это машина, уик-энд, а Афганистан и Камбоджа тема для разговора, может быть, даже спора.
У нас ничего подобного не было. Даже отдаленно напоминающего. Но веселость была. И влюбленность друг в друга, в искусство, в Театр (с большой, даже громадной, буквы), в Иван Платоновича...
Иван Платонович Чужой был нашим учителем. Любимым. Боготворимым. Мы по уши влюблены были в него, такого красивого, умного, тонкого, в прошлом артиста Художественного театра, ушедшего оттуда по болезни — на сцене, чуть ли не на спектакле (дублировал Качалова в Бароне), началось кровохарканье, с трудом откачали... Все, что он ни говорил, было прекрасно, все, чему учил, еще прекраснее. О, театр! О, правда переживаний! О, Великий Станиславский! Трижды великий МХАТ! «Дни Турбиных» с Хмелевым! «У врат царства» с Качаловым! «Царь Федор» с Москвиным! И все мы были потенциальными Хмелевыми, Качаловыми, Тарасовыми и Еланскими... И... и... Не пили! Вот так вот, не пили! Ну, иногда напивались, случалось, на Новых годах, на чьих-нибудь именинах, но разве это можно назвать питьем? Детский сад.
В свободные вечера собирались у Нанины Праховой. С Иван Платоновичем во главе. Чай с вареньем, пироги, какие-то шарады, которые исполнялись на полном серьезе, чтоб понравиться Иван Платоновичу. А со стен глядели на нас полотна Врубеля, Нестерова, Васнецова, Коровина — все они были друзьями дома, а дом был художнический — и отец, и мать, и дед — знаменитый Адриан Прахов, которому всем обязан киевский Владимирский собор.
Нет уже теперь таких квартир. Есть другие, побольше с привезенными из-за границы Шагалами и роскошными альбомами Сальватора Дали на финских полках, но таких нет. Пусть в домах тех годами не работали лифты и долго надо было спотыкаться в длиннющих коридорах, зато попадали затем в комнату, ту самую, где мебель по рисунками Врубеля и в пудовых золоченых рамах такие красивые обнаженные весталки Семирадского и Котарбинского (мы их немного презирали, но любовались), пейзажи Капри, Везувия, парижских бульваров с фиакрами и омнибусами. Нет этих квартир. Родители умерли, дети переженились, мебель продали, война раскидала всех во все концы света...
Но это было уже потом. В те же дни, провожая Иван Платоновича домой по тихим ночным киевским улицам, мы говорили о прекрасном, возвышенном, об искусстве, служении, а на следующий день,.. Черт с ним, что утренник и надо изображать 2-го мужика или 3-го горожанина в осточертевшей «Пугачевщине», и с веником и совком убирать за кобылой Пугачева, которая от волнения и прожекторов вечно оскандаливалась на сцене. Зато потом, до вечернего спектакля... О, эти часы!
«Тварь ли я дрожащая или право имею?» — трагическим шепотом произносил я — Раскольников над трепетным пламенем свечи на столе. Я видел тогда только расширенные от ужаса глаза Сонечки Мармеладовой и ничего другого. А ведь именно в те, заполненные счастьем и влюбленностью дни, не какая-то там Камбоджа или Уганда, а четверть твоей собственной России, Украина гнила в лагерях. Ну, может быть, еще не четверть, но было это в незабываемом тридцать седьмом году.
Тем же летом, уже окончив студию, мы гастролировали с театром в Днепропетровске и Запорожье. Изображая франкистских офицеров в сверхгероической пьесе Мдивани «Альказар». Вели на расстрел Юру Недзвецкого — Гарсиа Лорку. Тогда же, идя как-то на репетицию, увидели в газете, вывешенной на стене, сообщение о предателях и изменниках Тухачевском, Якире, Уборевиче. Ахнули, не поверили, а через полчаса думали уже о том, как бы смыться с репетиции и махнуть на пляж.
Было мне тогда уже не двадцать, а двадцать шесть лет.
Прошло еще два года. Меня и Нанину занесло во Владивосток. Что-то изображал там на сцене театра Тихоокеанского флота, не помню уже что, но, кроме того, вместе с краснофлотцем Александровым мастерил макет для бальзаковской «Мачехи». Потом для «Доходного места» Островского. Декорации, костюмы, реквизит. Все зависело от меня, театрального художника, как именовался я на программке сразу же за худ. руководителем и режиссером-постановщиком. Было интересно, увлекательно, тешило самолюбие. А по вечерам, после спектакля, в крохотной моей каморке, сидя друг у друга на коленях, весело выпивали с ребятами — все они. молодые актеры, проходили военную службу в нашем театре.
В Испании все еще шла война. Мы переживали неудачи республиканцев, иной раз позволяли себе выпить за их успехи по глотку Бог его знает как оказавшегося на владивостокских прилавках ихнего же испанского шампанского. Но, ей-богу, выпив за их здоровье, говорили, перебивая друг друга, о вещах, куда более близких и жгучих. А в нескольких километрах от моей каморки, на Второй речке, куда часто ездили мы с выездными спектаклями, умирал Осип Мандельштам, Кто знал об этом? А большинство, и я в том числе, просто никогда и не слышали о существовании такого поэта.
Грустная картина? Возможно. Не знаю — будь мы тогда протестантами, борцами, Буковскими или Кузнецовыми, жизнь, может быть, пошла бы по-иному. Кто знает. Но мы ими не были. Поэтому, вероятно, и выжили. И пережили. Более того, мы даже не отвергали Советскую власть. Другой мы не знали, а эту принимали, как данность. Старались не замечать ее, иронизировали над ней, подсмеивались, но антисоветскими не были. Ими мы стали уже после войны, перевалив за тридцать.
Вот какие думы, выражаясь литературным языком прошлого века, теснились чередой перед моим мысленным взором, пока я летел над Индийским океаном, где-то между Бомбеем и Пертом, конечным пунктом моего рейса.
Все это всплыло, ожило — я знал, что первым, кого увижу на «далеком материке», будет та самая Нанина Прахова, с которой вместе боготворили Ивана Платоновича, вместе бесславно поступали в студию Станиславского, вместе работали во Владивостоке.
С тех пор прошло сорок лет... После Владивостока наши пути с Наниной разошлись. Один сезон проработал я в Вятке (тогдашнем Кирове), другой в Ростове-на-Дону, оттуда и пошел на фронт. Нанина ж с родителями пережила оккупацию в Киеве. Потом оказалась в Германии. Освободили американцы. Долго слонялась по различным лагерям «ди-пи», с малышом Никиткой на руках. В конце концов осела в Австралии. Там и живет, в окружении детей и внуков. И не жалеет.
Бог ты мой, как тосковала она первые годы по Киеву. Там остались братья, сестры, старики-родители. Живы ли они? Писать боялась.
Как-то телефонный звонок. В Киеве.
— Говорит Леля Прахова. От Нанинки письмо!
— Не может быть! Откуда?
— Из Австралии.
— Из Австралии?
— Из Австралии.
Я помчался к Леле, сестре, в ту самую квартиру на Житомирской 40, с Врубелями и Васнецовыми. Стало их поменьше.
Николай Адрианович, отец, написал воспоминания. Выпустило их издательство «Мистецтво». И на первой странице портрет отца. И увидела Нанина его в своем Перте, в магазине русской книги — не помолодел, конечно, но та же бородка, та же милая улыбка в глазах, — не выдержала и написала письмо.
Так началось.
Сейчас должно было быть продолжение.
Маленький домик в Яидервиле, предместье Перта. Четыре комнатки. Одна сдается. Живут там две китаяночки, студентки. По утрам варят кофе, тихонько, как мышки, что-то жуют на краю стола и исчезают. Садик. Сушится белье. В глубине небольшое строение, именуемое «замком», — Нанинина мастерская, — пошла по стопам родителей, стала художницей.
Никитка с семьей живут отдельно. Приходят. Жена и дети, — по-русски ни слова, — смотрят на меня с неподдельным удивлением, все-таки «оттуда». Никитка ироничен. Вспоминаю его первое письмо в Киев. «Не знаю, «выкать» или «тыкать». Судя по фотографии, ты похож больше на бандита, чем на писателя, поэтому буду «тыкать»». Отношения в общем установились. Пиво по утрам приносил.
С Наниной...
А помнишь? А помнишь? Надолго этого не хватило. Стерлось, перепуталось, забылось, а в общем-то, отодвинулось в такую глубь веков. Что там Австралия, моря-океаны, в одном городе жил и годами не встречался. Нелечка Литвинова, — мы с ней вместе учились, — тяжело болела, а я перед отъездом даже не позвонил. Иван Платонович умер перед самым концом войны. Оккупацию провел в своем Остре, на берегу Десны. Мы перекинулись двумя-тремя письмами, но так и не увиделись. В одном из писем он писал: «Если кто-нибудь из ваших друзей, Вика, скажет вам, что едет в Остер, допустим, за картошкой, напроситесь к нему в спутники и разыщите меня в знакомом вам домике на ул. 8-го марта...» Не разыскал, никто не поехал за картошкой.
Прожил я у Нанины с неделю. Вечера на два хватило этого «а помнишь?», затем пошли друзья, гости, какие-то мои выступления, встречи с кем-то, зоопарк, еще какой-то парк, со старинными пушками и памятником-обелиском, пляж, купание — жарко было, как в Киеве в разгар лета.
В комнате, отведенной мне, было по-киевски уютно. Знакомые портреты по стенам, — умудрилась как-то вывезти, — брата, мамы — Анны Августовны, какой-то знакомой старушки, что-то итальянское, каприйское, — Нанина именно на этом острове и родилась. Росла в Киеве. Как и все мы, ни Ермоловой, ни Комиссаржевской не стала, зато стала австралийкой — полжизни уже здесь! — растит и балует австралийских внуков, бойко чешет по-английски, раз в год или два устраивает свои выставки — живопись ее и симпатичная керамика, очень русские по духу, неплохо продаются, — о Киеве вспоминает все реже и реже. «Мечтала поехать. Накоплю денег и поеду. Пока копила, все поумирали. Один ты остался, и то сбежал. К кому ж ехать?» «Копи теперь на Париж. Городишко ничего». На этом и сговорились.
Так и пролетела неделька в домике на окраине Перта, — в самом центре побывать и не успел, — в этой странной и трогательной смеси русского, киевского, пертского, австралийского, английского — такого как будто несоединимого.
(Пусть роза сорвана, она еще цветет...)
Смотрю со стороны на этот вырванный из родной почвы цветочек. Ну, пополнела, ну, поседела, ну, где-то там что-то болит, а вот сядет у стола, что-то зашивает, совсем как в том далеком Владивостоке в уютной комнате с занавеской через всю комнату и видом из окна на лютеранскую кирху. Только и разница, что очков тогда на носу не было, а сейчас есть, если не засунула куда-нибудь — «и куда я свои очки дела, ты не видел?»
Я рад за Нанину. Роза не роза, но на склоне лет по-своему цветет, — тишина, покой, домик, мастерская, и то, что она делает, кому-то нравится, покупают, и внуки хорошо занимаются, любят бабушку, а бабушка их, и газет бабушка не читает (и никогда не читала), и Россия с ее Афганистаном далеко, и все это, вместе взятое, я окрестил бы одним прекрасным словом, которого многие стыдятся, — благополучие.
Было ли б оно дома?
Австралия — континент (прежде называвшийся Новой Голландией), лежащий к юго-востоку от Индийского архипелага, по обе стороны южного поворотного круга, и остров Тасмания. Все остальные острова Тихого океана носят название Океания.
Австралийцы — первобытные жители австралийского материка. Костяк тонкий и красивый, руки и ноги худые, но зато живот очень большой вследствие неравномерно распределенного и плохого питания. Подобно африканским неграм, австралийцы не имеют икр. Они вообще ласковы, добродушны и отличаются веселым нравом.
Флора — наиболее распространенный вид растений — эвкалипт, разных видов которого около ста, и бесстебельная акация, которой известно около ста видов. Листья у них обращены к небу или земле не поверхностями своими, а краями. Эвкалипты, кроме того, меняют не листья, а кору.
Фауна — сумчатых или двуутробок около ста видов. Самое большое — кенгуру, мясо которого вкусно и здорово, а хвост составляет лакомое блюдо. Наиболее странное среди австралийских животных — ехидна и утконос (Ornithorynchus paradoxus) — единственный вид единственного рода одного из двух семейств однопроходных.
Муравьи, величиной больше сантиметра, очень сильны и злы. Мухи являются настоящим бичом страны.
Сидней (Sydney) — гл. гор. англ. колонии Новый Южный Валлис, в вост. Австралии, под 33° 51' ю. ш. и 151° 12' в. д. на берегу зал. Порт-Джексон, в очень живописной местности. Летняя температура одинакова с температурой Неаполя или Алжира. Болезней легких не бывает, эпидемии случаются очень редко. Зато понос принадлежит к самым распространенным болезням.
(Энциклопедический словарь
Брокгауза и Эфрона,
СПБ, 1890, том 1)
Увы, нет под руками Большой Советской Энциклопедии, приходится пользоваться Брокгаузом и Ефроном, изданием солидным, но все же девяностолетней давности. С одной стороны, это плохо, так как не найдешь там кое-каких существенных сведений (как-то: о золоте, обнаруженном в недрах Австралии только через год после выпуска первого тома «А — Алтай», а позднее и нефти, — плевали они сейчас на всех саудовских шейхов), с другой стороны, в более поздних энциклопедиях о золоте и о нефти предостаточно, а о том, что у туземцев нет икр, а жителей Сиднея одолевают поносы ни слова.
Настаиваю — нет занятия более увлекательного, чем чтение энциклопедий. Ищешь, например, статью «Австралия» и попутно, листая, узнаешь ценнейшие сведения об Александровской колонне против Зимнего дворца — о ее размере, весе, о том, как перевозили из Финляндии, устанавливали при стечении многочисленной толпы, в присутствии самого императора Всероссийского Николая I этот двенадцатисаженный монумент и о том, как император, поблагодарив автора проекта, сказал ему: «Monfe'rrand, vous vous e'tes immortalise» — Монферан, Вы себя обессмертили! В БСЭ ничего об этом нет, а здесь подробно, на четырех колонках с картинкой. Правда, на соседней странице, увы, без всяких подробностей, сообщается о некоем Александровском И. — изобретатель подводной лодки. И все. Больше ни слова. Обидно.
Впрочем, все рекорды, во всех областях, побивает Большая Советская Энциклопедия, особенно второе ее издание, так называемое синее. Я плакал горючими слезами, расставаясь с ней перед отъездом на Запад. До сих пор храню пришедшее из Главной ее редакции извещение-рекомендацию — вырезать («при помощи ножниц или бритвенного лезвия» — хорошо, что не топором) страницы 21, 22, 23 и 24 с портретом во всю страницу некоего товарища в пенсне и заменить их предлагаемым Беринговым заливом и морем. Но об этом я уже писал, так же как и о таинственном исчезновении из истории Государства Советского Кагановича и Маленкова и забавных злоключениях Ильфа и Петрова. Не буду повторяться, хотя очень хотелось бы. Пора и честь знать.
Итак, 3 марта 1980 года в 9.30 утра со взлетного поля лондонского аэродрома Хитроу стартовал Боинг авиакомпании «Кантас» и взял курс на Сидней, через Перт — Мельбурн, с остановкой в Бомбее. Внутри находился я. Через двадцать пять часов, заполненных едой, кинофильмами и общей усталостью, в аэропорту Перта произошла та самая историческая встреча с юностью, о которой я уже поведал.
Отправлялся я в Австралию не просто так — расширить кругозор и пополнить коллекцию увиденных мною стран (сейчас их уже двадцать три, не считая печальной памяти Бангкоков и прочих Дубай, где знакомство со страной ограничилось аэродромными сувенирами и, в лучшем случае, пивом). Цель поездки была просветительски-миссионерская — поведать австралийцам об успехах и достижениях одной страны, постигшей все прелести некой зрелой формации, в сущности которой я малость разбираюсь.
Занимался я этим похвальным занятием почти два месяца, выступая бесчисленное количество раз, и под конец не мог просто слышать свой голос, до того он мне опротивел.
Аудитории были разные. Первая, в Перте, чуть ли не в день приезда, просто-напросто еврейская, что очень упростило дело. Киев, антисемитизм, Бабий Яр — все всем было понятно. В дальнейшем студенты, профессора, журналисты, даже писатели (ни одного из них, к своему стыду, не читал, впрочем, как и они своего гостя), в основном же, эмиграция. Не помню уже точно, но тысяч по пять, если не больше, русских и в Мельбурне и в Сиднее уже наберется. В большинстве это китайская, так называемая харбинская, эмиграция. Есть и вторая, послевоенная волна. Появилась теперь и третья — недавно приехавшие.
За годы своих странствий я привык к разношерстности аудиторий. Иностранцы, как правило, спокойны и невозмутимы (за исключением итальянцев), вопросами не одолевают. Выходцы же из наших краев встречают по-разному, не всегда с восторгом. В Канаде я это почувствовал, выступая перед своеобразным конгломератом петлюровцев, мельниковцев, бульбовцев и бандеровцев, в Австралии же на меня косо поглядывали кое-кто из харбинских монархистов (как-никак, а тридцать лет состоял в рядах) и власовцы (как-никак, а в прошлом советский офицер). В споры я не вступал. Ни в Канаде, где иные относились ко мне как к «великодержавному шовинисту» (из тех, кто Гоголя считают предателем), ни в Австралии, где, немногие, правда, убеждали меня, что, встреться мы на поле боя, дали б они нам дрозда! Что ж, через сорок лет многое представляется в особом свете. Всем хочется выглядеть героями, да еще и идейными. Я к этому не стремлюсь. Как в старину говорили — Бог рассудит! А теперь — разве что История? Да и ей как-то особенно не доверяешь.
Приносят ли какую-либо пользу все эти выступления? Хотелось бы думать, что да. Возможно, кому-то в чем-то и открыл я глаза, — но, в общем-то, правильно гласит русская поговорка, — сытый голодного не разумеет. А кругом были сытые...
К концу поездки я стал задавать своим собеседникам — студентам, профессорам, членам парламента, эмигрантам разных поколений — один только вопрос:
— Скажите, что вам в Австралии не нравится? Пауза. Морщится лоб.
— Что мне в Австралии не нравится? — Да.
— Сейчас скажу... Одну минуточку. — Жду.
— Сейчас, сейчас... Дайте подумать. Думает.
— Видите ли, когда мы приехали сюда...
— А когда вы приехали?
— В 1920-м. (Варианты — три года назад, в прошлом году...)
— Нет, не тогда, а теперь. Что вам теперь не нравится?
— Теперь?
— Да, теперь...
— Сейчас скажу... — Смотрит на часы. — Батюшки, уже пять! А я к половине пятого обещал. Знаете что? Вы вечером сегодня свободны? Приходите к нам, обо всем потолкуем.
Это эмигранты. Местные жители несколько конкретнее. Как правило, не нравится данное правительство. Лейбористы ругают консерваторов, консерваторы лейбористов. Обычная картина. Ну, и инфляция, безработица, молодежь, мол, не та пошла. А молодежь о стариках — маразматики, все новое им чуждо.
Маразматики, как правило, живут в отдельных домиках с садиком, имеют две машины (свою и жены), у старшего же сына, осуждающего маразматиков, в худшем случае, мотоцикл. События в Афганистане их, конечно, волнуют, без вопросов о бойкоте олимпиады не обходилось, но, в общем-то, все это так далеко. Индийский океан, Тихий океан...
Короче — сытая, благополучная страна. Этим, впрочем, особенно не удивишь — Франция или Англия с голоду тоже не умирают. Но там, глядишь, Марше мутит воду, там террористы одолевают, там самолеты угоняют, не знают, что делать с кубинскими и гаитянскими беженцами, в Южной Америке что ни день, то путч, новая хунта, а здесь... Не Новую же Зеландию или Новую Гвинею бояться? Правда, в прошлую войну японские самолеты долетали до Австралии, бомбили даже порт Дарвин. А в первую мировую войну в процентном отношении, говорят, Австралия среди союзников понесла наибольшие потери - в Мельбурне и Сиднее воздвигнуты, как во всех порядочных городах, весьма монументальные мемориалы с колоннами и вечным огнем. Я видел очень тронувшие меня аллеи, где у каждого дерева дощечка с именем павшего воина (у нас лесов просто не хватило бы...). И все же — слава Индийскому, слава Тихому океану!
Второе — богатые недра. Почти все свое собственное. А главное — нефть. Цифры называют разные — то 60, то 70, то даже 80 процентов добывается в Австралии. Можно не ломать шапки перед всеми этими кувейтами и эмиратами.
И третье — никакого сепаратизма, никакой национальной розни. Ни Тасмания, ни Квисленд не требуют автономии. Нету тут ни Корсики, ни Бретани, ни басков, ни, тем более, Северной Ирландии. Есть, правда, Северная Территория. У нее своя проблема — аборигены.
С ними, теми самыми, у которых большие животы и нет икр, увы, не все так уж блестяще, Тот же Брокгауз и Эфрон еще тогда писал: «Все попытки европейцев приохотить австралийцев к учению и к оседлости остались безуспешными. По мере движения вперед европейских колонистов они отступают и быстро идут навстречу своему окончательному уничтожению. Благодаря дикости и необразованности австралийцев, их умственные способности обыкновенно ценятся не очень высоко, но довольно значительное развитие этих способностей доказывается находчивостью, которую обнаруживают австралийцы на охоте и особенно свойствами их языка, равно как и заметными следами поэзии и некоторыми прекрасными мифологическими воззрениями».
Сейчас в австралийцев превратились эти самые колонисты, а истинных австралийцев перекрестили в аборигенов. Но намного ли стало им лучше за последние сто лет? Во всяком случае, «колонисты» опускают глаза, когда речь заходит о туземцах. Да, чего-то недоглядели, что-то прозевали, допускалась иногда и жестокость, что и говорить, но, строго между нами, учиться-то они действительно не хотят... И пьют..,
Тут я умолкаю.
Вот так и живет страна, в которой автомобилей, как минимум, по два на семью, а овец раз в пять больше, чем людей, И все ж одна из моих слушательниц, молоденькая, симпатичная студентка, остановив меня на улице, сказала:
— Хотите вы или не хотите, а в Советском Союзе лучше.
— Серьезно?
— Вполне. Там ведь нет капиталистов.
— Нет, — согласился я. — И кое-чего другого тоже нет. И разговор увял.
На этом, думаю, можно наш сверхсжатый политико-экономический и социальный экскурс закончить.
Поговорим о прекрасном.
Начнем с Георгия Георгиевича Бонафеде, — он же Гога, — моего Вергилия, опекуна и ангела-хранителя. Инженер по специальности, он только что перешел на пенсию, поэтому имел время и возможность организовать и отлично провести «турне» гостя из Европы. Это он, встретив в Аделаиде его, прилетевшего из Перта, отвез на своей машине в Мельбурн, а затем в Канберру. Это он дал ему кров, а по утрам готовил яичницу, — жена рано уходила на работу. Это он волновался, будет ли сегодня полный зал и какой будет прием, а еще больше, не забыл ли гость, любящий шлепать в сандалиях на босу ногу, надеть носки перед визитом в парламент и повязывал ему собственный галстук. Это он в десятый, двадцатый раз терпеливо переводил на английский рассуждения писателя, от которых под конец обоих просто тошнило.
В Канберру мы приехали под вечер. Дорога спокойная, по французским нормам пустая, справа и слева проносились золотистые, сухие, выжженные солнцем холмы — в этом году засуха — и рощи не дающих тени эвкалиптов. Иногда они проносились мимо страшными, голыми остовами-скелетами, и в скрюченных безлистых их ветвях на фоне розового вечернего неба чувствовалось что-то зловещее.
— Окольцованные, — объяснили мне.
Оказывается, печальные эти скелеты дело рук человеческих. Деревья сознательно убитые. Чтоб не пили влагу, предназначенную для пастбищ. Их окольцовывают, лишают коры и они сохнут. Это дешевле и скорее, чем срубать. Превращение же пейзажа в какую-то хичкоковскую декорацию во внимание не принимается.
После выжженных холмов Нового Южного Уэллса, Канберра поражает своей зеленостью. Ее принято называть городом-садом. Впрочем, как и наш Киев, который, увы, ни в какое сравнение с ней не идет.
Канберра молода. Для города семьдесят лет, которые он будет праздновать в 1982 году, не возраст. Канберра искусственна, придумана, вплоть до украшающего ее большого озера. Зелень ее тоже искусственна. Деревья — а их сколько-то там миллионов, известна точная цифра — привезены и посажены. Автор всей этой «придумки» Уолтер Берлей Гриффин. Первые эскизы будущей столицы сделаны в 1912 году.
Всю жизнь я думал, что красивее немецких или французских готических городов ничего нет. Посреди кафедральный или какой-нибудь другой собор, — сам по себе уже прелесть, — перед ним на маленькой, выложенной брусчаткой площади Жанна д'Арк или неведомый тебе курфюрст, а вокруг теснота старинных, с черепицей домов и запутанная сеть узеньких, извилистых улочек. На шпилях петухи, геральдические львы высовывают языки и завиваются хвостами над дубовыми дверями уютных сводчатых пивных с бочками в глубине и ландскнехтами на стенах. В Англии или Шотландии свой аромат. Готика другая, и свои вязы, и пабы, и почтовые рожки над стойкой. В Италии по-своему - все лезет в гору, лестницы, ступени, арки, глубокие тени на белых стенах, яркое солнце.
Но где б это ни было — в Германии, Франции, Англии, Италии — это тесно, сжато, налезает друг на друга, сделано временем — кто архитектор, Бог его знает.
И вот, при всей своей любви к этой средневековой, завораживающей тесноте, я, увидев Канберру, ахнул. Канберра — это небо. В обычных городах ты его не видишь, оно где-то там, над или между домами, ты о нем забываешь. Здесь оно все время с тобой, оно везде, поминутно, напоминает о себе — то голубым своим фоном для сияющего белым музея, то отражаясь в озере или просвечивая сквозь багрово-золотой убор австралийской осени, то розовея грядой вечерних облаков. Небо везде. И воздух немыслимой прозрачности, и дышится легко, как в поле, как в степи.
Улиц в Канберре нет — аллеи. Домов не видно, они тонут в зелени. Только в центре — что-то торговое, магазинное, гостиничное. Ну, и — столица есть столица — парламент, что-то еще, символизирующее порядок и власть, Национальная библиотека, обелиск Аязаку — армии, американо-австралийской военной дружбе. А вокруг гектары зеленых газонов и опять же небо.
А где же люди живут? Они здесь не живут, они здесь работают. А живут неподалеку, на периферии города или в городах-сателлитах — Воден, Бельконен, Вестей Крик, Таггеранонг. И всего-то их 250 тысяч, чуть больше, чем в Женеве или Умани.
Я люблю Нью-Йорк, люблю Манхэттен, мне нравятся небоскребы, они красивы, но как хорошо, когда их нет. В Канберре их нет — небо, воздух и кругом холмы.
Хотел бы я жить в Канберре? Нет, жить не хотел бы. Аллеи прекрасны, дышится легко, любуешься молодым месяцем, а чтоб до первого кафе дойти (да еще найти его) или до книжного магазина — нет, в Париже это куда проще. Так что, останусь-ка я жить в Париже. Он вне конкурса.
Города в Австралии необъятны. Жители Мельбурна и Сиднея, каждый о своем городе, говорят, что он второй в мире по занимаемой площади после Лос-Анджелеса. Этот последний я видел только с воздуха. Самолет летел над ним минут двадцать, если не больше. Уныло до умопомрачения. Шахматная Доска из шестидесяти четырех или шестисот сорока тысяч клеток и в каждой клетке шестьдесят четыре или шестьсот сорок особняков. Внутри, очевидно, шик, комфорт, сверху тоска собачья. Над Мельбурном я тоже летел. Тоже минут двадцать. Но то было вечером, море огней, красиво.
Все города в Австралии — это десятка два-три небоскребов в центре — сити, остальное домики в садах, с обязательным палисадничком, гаражом. Удивительно, неправдоподобно тихо. Вьются винограды, плющи, во дворах выращиваются кактусы, сохнет белье, кое у кого бассейны. У всех машины — расстояние роли не играет.
Улиц в европейском смысле — прижатые друг к другу дома с фасадом на улицу — в Австралии нет. Либо небоскребы, конторы, офисы, либо особнячки, расползшиеся до горизонта. Вот в них-то и вся прелесть. Они — лицо Австралии. Очень симпатичное, с другим не спутаешь. Причина этому — веранда.
Веранда — это мое детство. Именно на ней, в Ворзеле, на даче у друзей, валялся я в дождливые дни на раскладушке и глотал Жюль Верна и Буссенара. Думаю, потому-то и австралийская меня умилила.
Маленькие города вдоль дорог — сплошь веранды. Первый этаж галерея, магазины, второй для собственного пользования, Импортировались они сюда, со своими сплошь в узорах металлическими перилами и изящными, тоненькими коринфскими колонками, из Испании и Португалии, через их колонии, Вест-Индию, Бразилию. Красиво и удобно — в жару и дождь. Первая из веранд появилась в 1780 году, в доме генерал-губернатора Роберта Росса. С его легкой руки украсила всю Австралию.
Особенно хороши ранние, начала века. В одном из таких домов я был — в Лэнионе, недалеко от Канберры. Парк, столетние эвкалипты или что-то подобное им, и среди них — барский дом. Простой, одноэтажный, а вокруг терраса с натертым до ослепительного блеска паркетом. Очевидно, по вечерам здесь пили чай или прогуливались в ненастную погоду. Патриархальному этому стилю англичане дали название Colonial Georgian Style. В нем благородная простота и изысканность. В таком доме приятно жить. Сейчас в нем музей. Кроме меня посетил его и американский президент Линдон Джонсон и подарил, а может и посадил, два дерева, какие именно, не знаю, но, безусловно, не менее прекрасные, чем сам дом...
Не знаю, как другие, а я с возрастом становлюсь все более и более консервативным. В искусстве, во всяком случае. Молодость прошла под знаком французов — Манэ, Ван Гог, Матисс, Гоген. Последнему пытался даже подражать. Модные сейчас Кандинский и Малевич задели, но не больше. В архитектуре, я уже говорил, кумиром был Корбюзье. Сейчас новаторство меня скорее раздражает, душа просит покоя, и если б можно было его где-то обрести, я предпочел бы не в стеклянных стенах современных вилл, а среди колонн старосветского русского помещичьего дома. Того самого добротного ампира, со львами у въезда, с липовой аллеей. Мечте этой не суждено осуществиться, что поделаешь, но вспомнил я этот дом по совсем другой причине.
Консерватизм консерватизмом, но вот в Сиднее, проплывая на своем вечернем пароходике мимо красиво отражающегося в водах залива знаменитого на весь мир оперного театра и глядя на этих, по чьему-то очень меткому определению, совокупляющихся устриц, я не пожимал плечами, наоборот, смотрел во все глаза и несчетное количество раз щелкал фотоаппаратом.
В чем же дело?
С юных еще лет, с дней увлечения Корбюзье, привык я, что внешние очертания здания в какой-то степени соответствуют тому, что находится внутри. Наползающие друг на друга устричные скорлупы театра, — а видел я его только на картинках, — я объяснял себе какими-то акустическими требованиями, сложным замыслом архитектора.
— Что ж там внутри? — первое, что я спросил, попав в Сидней.
И меня повели внутрь. Там оказалось три зала — оперный, концертный и кино. Три весьма приличных, хорошо оформленных зала, но к совокупляющимся устрицам никакого, ну, ни малейшего отношения не имеющие. Акустика акустикой, а устрицы устрицами. Чистейшей воды обман, декорация, бред... За такое нам в институте ставили двойку.
Говорят, история со строительством сопровождалась каким-то скандалом. Детали его мне неизвестны, но, по рассказам, автор проекта, какой-то датчанин, представил чертежи только внешнего оформления, без всякой начинки. От него что-то начали требовать, он уперся, заупрямился, и завершал проект кто-то другой. Архитектор обиделся и даже на открытие не приехал, хотя церемонию проводила сама королева.
Так и стоит знаменитый театр, отражаясь в водах залива, олицетворением архитектурной нелепости, привлекая туристов со всего мира. Количество потраченной на него фотопленки, думаю, побило все рекорды. Даже я, консерватор и поклонник русского ампира, привез домой две катушки этого столь притягательного архитектурного абсурда.
Австралия, конечно, не города. Чтоб сказать, я был в Австралии, я знаю ее, приезжему недостаточно кататься на пароходике по Сиднейскому заливу или даже, как я, полетать в двухместном самолетике «Чесна» над Канберрой — среди университетских профессоров нашлась летчица-любительница, по имени Маргарита, которая и совершила со мной два незабываемых круга над столицей Австралии. И проехаться в машине от Аделаиды до Мельбурна, а потом по Виктории и Новому Южному Уэллсу или окунуться в волны Индийского океана и задумчиво побродить по пустынному пляжу, собирая водоросли, — этого тоже мало.
Надо побывать в буше, австралийских джунглях, и если не верхом, то хотя бы в «Ленд-ровере» пересечь пустыню, — ведь Австралия в основном пустыня, — проехать сквозь центральную ее часть, поохотиться на кенгуру — но я не охотник! — тогда выпить хотя бы свои сто грамм с ребятами, стригалями овец, или, если не выпить, то хотя бы пообщаться с аборигенами Севера.
Мне этого не удалось. Уставал я не от верховой езды или бросания бумеранга, а от своих собственных выступлений в студенческих аудиториях или масонских клубах (полное разочарование — ожидал таинственности, полумрака, а тут те, что сдаются под всякие мероприятия, мало чем отличаются от какого-нибудь киевского клуба 4-й обувной фабрики, только вместо Брежнева портрет королевы на стенке). Уставал от приемов, встреч, обедов с членами парламента (как же, обязательно надо!), а потом, ничего не понимая, следишь якобы за происходящей дискуссией в полукруглом зале с дубовыми панелями, где секретари и какие-то чины в завитых париках, а сам борешься со сном. И от самого себя уставал — как ни варьировал, как ни разнообразил, а все об одном и том же, каждый день, а то и два раза — утром и вечером.
Но грех роптать. Было и свободное время. Побродил все же если не по бушу, то по Мельбурну и по Сиднею. Даже один.
Люблю бесцельные прогулки. По незнакомому городу особенно. Идешь куца глаза глядят, сворачиваешь направо, налево. Заходишь в магазины. Книжные. Походишь вдоль полок, полистаешь книги — ну, до чего ж роскошно издают — поглядишь альбомы страны, в которой находишься, поймешь, что все твои фотоупражнения детский лепет по сравнению с этими ракурсами, освещениями, панорамами на две страницы, посмотришь под коней цену, проглотишь слюну и пойдешь дальше. Направо, налево, прямо, площадь посередине памятник. Вынимаешь из кармана «Минолъту-110» и щелкаешь. Спрашивается — зачем? Ответа нет. Вернувшись из поездки, дрожащими руками вываливаешь на прилавок магазина «Филипс», где тебе проявляют и печатают, ворох крохотных кассет и боишься даже думать, во сколько это обойдется...
Так и по Сиднею шатался. Направо, налево, щелк-щелк. От витрины к витрине. Среди небоскребов. Таких же, как везде, шикарных, сияющих. Потом на молниеносном лифте куда-то наверх, и Сидней под тобою. Ах, залив, ну и залив! Почти сан-францисский. И тысячи яхт. Сегодня воскресенье — снуют, скользят, надув желтые, красные, полосатые паруса, не задевая почему-то друг друга, сваливаясь набок, купая паруса. Еще одна катушка. Чашечка кофе во французском кафе с почти парижскими круассанами и опять направо, налево, щелк-щелк... Кончается маршрут под мостом, тем самым, которым так гордятся сиднейцы (почему-то все гордятся своими мостами, даже киевляне своим имени Патона, удивительно никаким, зато с патоновскими швами вместо заклепок), Под береговым устоем травка. Растягиваюсь. Ноги гудят. Вечереет. Проходит туристский лайнер на Фиджи. Сияет огнями. Подсветили и театр. Вынимаю только что купленные глянцевые открытки с его изображением и пишу во все концы света: «Привет из Сиднея! Знаете ли вы, что такое Сидней? Нет, вы не знаете, что такое Сидней...» Он расположен под 33° 51' ю. ш. и 151° 12' в. д. и в 1890 году в нем жило 241 211 человек, а сейчас один или два миллиона. Среди них пять тысяч русских, я 5001-й... Ну и т. д.
Меня подзывают к телевизору, хотя знают, что я его терпеть не могу. «Оторвитесь на минутку от своего писания. Посмотрите, как карабкаются на Монблан!» Трое ярко-красных альпинистов карабкаются по совершенно отвесной стене. Раскачиваются на канатах, забивают в расселины какие-то штыри, подтягиваются, упираются шипами в стенку и так метр за метром. Страшно... А им нет, хоть бы хны. И еще тюки за собой тащат. Кругом горы, снег. Снимают, по-видимому, с вертолета. И так шесть дней. Последний кадр — они на вершине колючего пика. Повернуться там негде, а они пляшут. Крупным планом лица, смеющиеся, красные, обветренные. Один в очках. А если разобраться? Кто-то из циников спрашивает: «Интересно, а как они на этих своих веревках нужду справляют?
Героические ребята! Вот о ком, о чем писать надо. Кстати, в Австралии тоже свои Альпы есть. А я про свеженькие круассаны и книжные магазины...
Возвращаюсь к своему «писанию».
Что-то не клеится...
Перед глазами стоят эти смелые, отчаянные ребята. Немножко завидуешь им. Но и экипировка какая! Все эти тросы, канаты, ботинки с шипами, не пропускающие влагу и холод сверхнейлоновые куртки. Вспоминаю, как мы на Эльбрус поднимались. В резиновых тапочках, в двух парах нитяных, штопаных-перештопаных носков, в сшитых в последнюю минуту из одеял шлемах и рукавицах, в бумазейных лыжных курточках и чресла, обмотанные газетами. (Потом этот способ согреваться я применил в лютую первую зиму войны, в запасном батальоне на Волге.) На Эльбрусе, в далеком 33-м году, мы тоже чувствовали себя героями. Я написал даже весьма патетический очерк «Покоренный старик», который почему-то нигде не напечатали.
Писать об альпинистах? Вероятно надо, кому-то интересно. Вот швейцарские альпинисты взобрались недавно на Анапурну-3, восьмитысячник в Гималаях. Событие! Незаурядное. Герои...
А другие альпинисты? Не в Альпах, нет, в других горах....Ведь ничего не знаешь об этой войне, позорной, скрытой от всех, войне без героев, где наши рядовые необученные (а может, уже и обученные) стреляют, гибнут, матерятся, пьют, торгуют «Калашниковыми».
Кто об этом напишет? Веселый выпивоха Тимур Гайдар пишет о любви и дружбе, а ведь все видит, все знает... Василя Быкова не пошлют.
Прошедшая война была главным в нашей жизни. О ней мы писали. Кто как мог. А что сейчас главное? И где оно? В Кабуле? На окраине города Горького? В Белом Доме? На Старой площади? В Потьме? В памяти? В сердце? Или может быть просто жизнь? Коммуналка на Сивцевом Вражке? Алтайская глухая деревня?
Перечитываю Шукшина. Да, перечитываю. Не со всяким это у меня получается, а его перечитываю. Не торопясь. Рассказик-два, отложу. Вечером еще два-три, опять отложу. Не гоня.
Писатель! И никаких эпитетов, прилагательных. Ни одного рассказа просто так, каждый заставляет думать. Каждый!
«Сапожки». Я не читал этого рассказа. Прочел рецензию на него в «Советской культуре». Вернее — на то, как читает его Сергей Юрский. Стал искать в своих книгах, не нашел, наткнулся на «Калину красную», прочитал, и захотелось вдруг написать о Шукшине — мы когда-то дружили. И написал. Потом уже, два года спустя, услыхал-таки рассказ в исполнении Юрского.
Помню, как слушал запись. О чем рассказ? О главном? А может, о пустяках? Увидел шоферюга в магазине сапожки. Очень ему понравились, решил купить жене. Долго колебался, купил, принес жене, а они оказались малы. Вот и весь рассказ.
Слушал его, не отрываясь, затаив дыхание. Юрский читает проникновенно и удивительно точно. Боялся, что кто-нибудь помешает, прервет. Когда зазвонил телефон, захлопал руками: «Не бери, не бери! Ну его!» Переживал все перипетии покупки, злился на продавщицу, на ребят в гараже, с замиранием сердца следил за примеркой этих сапожек — налезут или не налезут... А чем закончился рассказ? Ни один финал, ни Дюма, ни Конан Дойла, не ждал с таким волнением.
Кончается рассказ светло, не часто у Шукшина. «Нет, не в сапожках дело, а в том, что... Ничего. Хорошо». А рассказ-то страшненький. И Запад никогда не поймет его. Никогда. Пока сами Дюпоны и Смиты — не дай Бог! — не превратятся в Сергея Духонина, шоферюгу.
Читаю, перечитываю Шукшина. И радуюсь. И печалюсь. Печалюсь его печалью. Печалюсь, что нет его рядом с нами. Русского писателя Василия Шукшина... Васи Шукшина.
И вот, оказывается, есть на свете люди, которые считают его «промежуточным» (словечко-то какое!) писателем. И поучают еще его. «Нет, уж пусть лучше они остаются, эти промежуточные, в избяных светелках и на пахучих заливных лугах и не лезут в следовательские кабинеты и на выборные собрания». И это о Шукшине — пусть не лезет! О Шукшине, для которого все это боль, терзания, муки, от его рассказов о деревне (у того же автора «рисует яркие жанровые сценки»!) мурашки по коже пробегают («Охота жить», хотя бы). Да, никто из его героев не борется с советской властью, не кричит в пьяном виде «Брежнев дерьмо!», но нужно потерять последние остатки совести, чтоб позволить себе написать об этих самых «промежуточных» писателях, которыми мы все гордимся, и о Шукшине в частности, что «если он действительно честный писатель, он должен помнить, что его молодые собратья по перу, отказывающиеся лгать, работают кочегарами, дворниками, грузчиками...» и тыкать им в лицо, укорять, напоминать о том, дескать, что «целая литература загнана в подполье, что все это, как-никак, налагает обязательство и на него». И пишет это человек, который знает как будто условия советской жизни, — Ю. Мальцев, живущий не в колхозе «Путь коммунизма», а в тепле и холе то ли миланской, то ли туринской своей квартиры.
Вот на какие мысли натолкнули меня три французских альпиниста, взбиравшиеся на Монблан.
Ну, а мы, живущие в тепле и холе? Какие на нас накладывает обязательство сознание, что целая литература загнана в подполье и что собратья по перу работают кочегарами, дворниками, грузчиками? Объявить голодовку? Бить стекла в советском посольстве или, на худой конец, в агентстве «Аэрофлота»? Или учить Валентина Распутина, как надо писать? Почему не пишешь о лагерях, не вызываешь на поединок КГБ? Боишься? Хочешь по заграницам разъезжать? По разным там радио и телевидениям выступать? Не выступал? Неважно. Раз пишешь и тебя печатают, значит, любит тебя советская власть. Не любила б, посадила. А вот не сажает. Подозрительно. Стыдился бы...
Нет, не будем мы учить Распутина ничему. И остальных «промежуточных» тоже. Пусть пишут, как пишут. Честь им и слава! А автору этого постыдного, обидного определения, вот ему бы постыдиться...
Хорошо, а мы все-таки? Мы, избравшие свободу, живущие в тепле и холе? Мы, избавившиеся от ЛИТа и могущие писать, что хотим? А вот и не все. О друзьях, живущих «там», писать боимся. Подведем. И осудят нас за это. Забыл, мол, страну, где жил, ее порядки. И просят не писать. И не пишешь. А хочется... Зато звонишь. Благо, сейчас автомат и телефонная барышня не пугает своим: «Будете говорить с Парижем». Выпьешь для смелости пару грамм и набираешь Москву.
— Слушаю, — знакомый голос.
— Привет!
— Привет...
— Не узнаешь, что ли?
— Нет, — сдержанно-настороженно.
— Ай-ай-ай! Забыть так скоро...
— Простите, а кто говорит?..
— Кто говорит... Последний раз, когда выпивали, а было это шесть лет тому назад, ты сам...
— Господи! Неужели...
— Ужели.
— Откуда ж ты говоришь?
— С Центрального телеграфа.
— Я серьезно спрашиваю.
— Ей-богу! Забежал из Шереметьева. Пустили. На часок. Обзваниваю друзей. Лечу вот из Непала.
— Из Непала?
— Из Непала. Катманду.
— Катманду... Что ж ты там делал?
— А сейчас модно покорять Анапурну-3.
— Это что — гора?
— Очень даже высокая. Семь тысяч с чем-то.
— Господи, и ты на нее...
— Нет, на нее не получилось. Залил. У дяди Васи. Есть такой в Катманду. Русский ресторан держит, С отличной водкой.
— Слушай, хватит трепаться.
— Хватит... Расскажи тогда о себе.
Вот так и поговоришь. И на душе станет легче. Жив, здоров, значит. Не очень весел, правда. И недогадлив — поверил-таки в Катманду и Центральный телеграф. И от воспоминания об этом разговоре тоже становится чуть веселее. И нет уже неловкости, что пишешь не о главном, а о собственной, так не похожей на прежнюю, жизни. Ведь и в ней было что-то, о чем не стыдно и вспомнить. И даже — не боюсь этого слова — типичное.
В тепле и холе...В самолете. В машине. В поезде. Встречаясь с юностью, Ниной Михайловной, Хорь и Калинычем. Со студентами — вы за бойкот или против? С писателями, путающими Сталинград с Ленинградом — «Как вы перенесли ленинградскую блокаду?» На пасхальной заутрене в Мельбурне. На Бальмораль-бич, сиднейском пляже, не страшась акул. Снимаясь в обнимку с коалой, маленькой, тепленькой, такой симпатичненькой, нам бы ее характер. Не заводясь с малость подвыпившим власовцем — «Дали б мы вам дрозда!» Роясь в книгах, в старых журналах не только этой, но и той еще войны. Марна, Сомма, Верден. В том же Вердене — пятнадцать тысяч белых крестов у развалин форта Дуамон. Вспоминая Сталинград. И товарища Подгорного, перебивающего тебя: «Сталинград Сталинградом, но кто вам дал право клеветать на свою родину?» Вспоминая, вспоминая... Не забывая... Напоминая... Рассказывая. Людям, полжизни прожившим в Китае, о том, что кроме Шолохова есть у нас и Войнович, и Лидия Чуковская. С советскими морячками в портовом кабаке о Высоцком — «О! Кто ж его не знает...» И опять о бойкоте — был против, теперь — за!
В тепле и холе... В «Боинге-747». В экспрессе Токио — Осака — 300 километров в час. В мельбурнском дачном неторопливом, где нельзя курить, в Эльсем, к Нине Михайловне. Порыться еще в Надсоне с его жертвенниками и арфами, в забытых уже Вересаевых и Пантелеймонах Романовых, в старых «Аполлонах» (и в Сталинграде, в землянке, было у меня два номера за 1911 год, год моего рождения), «Столице и усадьбе»...
В тепле и холе? Нет — и в непроходимой боли... Боли за тех, кто еще там. И не только в лагерях, в тюрьмах, в ссылках, в Горьком, но и тех, кто выполняет или не выполняет план, пьет водку (на 50% больше, чем при прогнившем царском режиме1, иногда и молоко, которое после десяти утра и не достанешь (в Москве, Киеве — а в Ярославле?), за тех, кто пишет (за себя и за других) диссертации, кто без пол-литра не починит даже крана на кухне и, во всяком случае, не может прочесть не то что ГУЛага, но даже Вл. Набокова (я читал по секрету, дали на одну ночь) — боли за всех тех, кем был когда-то и я, а теперь осталось 260 миллионов... А в самолете «Кантас», на даче в Эльсем — тепло и холя... И думы, думы, думы...
_____________________
1 Откуда такая идеализация? Что со мной случилось? Сам как — то в «Литгазете» прочел — бывает и такое! — что за последнее тридцатилетие количество потребляемой на душу населения водки увеличилось в пять раз! А я о каких — то 50%... Каюсь. Ввел в заблуждение. Прошу прощения. В. Н.
И вот опять самолет. Не опоздать бы. В Окленд. Новая Зеландия.
Не знаю почему, но меня всегда манила Новая Зеландия. Объяснить не могу. То ли дальность расстояния, то ли слышал где-то краем уха об экономическом сверхблагополучии и хотелось проверить, так ли это. Ну, и загадочные, неистребленные еще маори. Помню, как поразил меня в свое время рассказ одного гляциолога (специалиста по льдам), вернувшегося из Антарктики и по дороге заскочившего в Новую Зеландию.
— В Новую Зеландию? — ахнул я.
— В Новую Зеландию.
— Вот так вот, запросто?
— Запросто... Пригласили антарктические друзья. Недалеко от нас новозеландский лагерь был.
Почему-то многомесячное пребывание у самого Южного полюса меня куда меньше поразило, чем трехдневный визит в Новую Зеландию.
— Ну и как там?
— Как везде, — улыбнулся приятель. Так и я отвечаю теперь — как везде...
Пробыл-то я там, в этом самом «как везде», не многим больше, чем мой приятель, всего неделю. Но зато был если не первым, то все же вторым российским писателем, посетившим эти сверхюжные острова. Первым был, как ни странно, не Евтушенко, а Наровчатов. (Говорили, что кто-то еще приезжал, но никак не могли вспомнить фамилию.)
Пребывание наше с Наровчатовым сенсацией не стало. Наровчатова, приехавшего в порядке какого-то обмена — потому что он просто молчал и открывал рот только, чтоб осведомиться о ценах при покупке чего-то шерстяного для жены. Мое же, не знаю почему. Говорил я, в противоположность редактору «Нового мира», предостаточно, но, очевидно, наши диссидентские дела не так-то уж волнуют новозеландцев. Не докатились до них наши тревоги. А то, что докатывается, вызывает довольно неожиданную реакцию. Мне рассказывали, что один из членов парламента, кажется, консерватор, потребовал от правительства наложить эмбарго на экспорт шерсти в Советский Союз. Почему? А потому, что из этой шерсти делаются свитера для советских солдат в Афганистане!!! Ничего себе? То, что она дальше руководящих жен не идет, им и в голову прийти не может.
— Ну, как там все же в Новой Зеландии?
— Как везде, — отвечаю я. — Те же супермаркеты — все есть, кроме, разве что, русского кваса (кстати, пойди найди его в нашем «Гастрономе»), те же «Тоёты» и «Датсуны» (даже больше, Япония рядом), те же пробки в «часы пик», те же «Плэй-бои», тот же «Честерфилд» и «Кемэл», та же пленка «Кодак» (нет дыры в тех джунглях Камеруна или Соломоновых островов, где б ее не было, только у нас фоторепортерам под расписку и по знакомству), ну, и тот же английский язык, навсегда и отовсюду вытеснивший прекрасный, красивейший язык — язык королей, король языков — французский. Ни в одном аэропорту тебя не поймут — только английский.
Да, так же, как и везде! Как и Австралия — сытая, благополучная, благоденствующая страна. Ну, и так уж положено в этих сытых странах, о чем-то спорят, что-то не поделили между собой консерваторы с лейбористами. Где-то из подворотни тявкают коммунисты — раз-два и обчелся.
Одним из главных вопросов на всех моих выступлениях, если не считать обязательного о бойкоте Олимпиады, был — как я отношусь к изгнанию советского посла, пойманного на горячем, в момент передачи им солидной суммы представителю компартии? Мое одобрение встречалось всегда аплодисментами. Перед самым отъездом я узнал еще об одном выдворении. На этот раз дамы, советницы довольно высокого ранга — стибрила что-то в супермаркете. Кажется, пару мотков шерсти — советские дамы очень на них падки.
Я не видел советского посольства в Веллингтоне — мне не показывали, — в Канберре же я его зачем-то даже сфотографировал. Вернее, крышу и флаг, виднеющиеся из-за забора. Это поразительно — до чего неприветливы здания наших посольств. Глянешь на другие — в той же Канберре — в каждое хочется зайти. Среди лужаек, на холмах, видные издалека, а индонезийское окружено сотнею Будд, очевидно, из разряда доброжелательных, советское же — за забором, перед ним будка, в ней часовой. В Париже еще хуже. На смену старому, еще царскому на рю Гренель, отгрохали сейчас нечто мрачное и отталкивающее на бульваре Ланн. Циклопический бункер, готовый выдержать любую осаду. Так и кажется, что из каждого окна глядит на тебя пулемет. Вот такое бы американцам в Тегеране.
Итак — все, как у всех. Нет, не все. Чтоб это понять, надо сесть в самолет. А я, прилетев из Мельбурна в Окленд поздно вечером, раненько утром летел уже в Данидин. Новая Зеландия — это два крупных, не считая мелких островов — Северный и Южный. Так вот, Окленд на севере Северного, а Даниндин на юге Южного — иными словами, в первый же день я пролетел над всей страной.
Немыслимо зеленая. Зеленее Англии. Много дождей, влаги. В Австралии жара, здесь дождь. И наоборот. Мне повезло — я приехал после дождей. Они промыли воздух. Зеленые холмы, стада овец, дальние горы, пласты облаков над долинами (по-маорийски Новая Зеландия — Страна облаков) — все четкое, ясное, казалось даже, что видишь море за хребтами.
Данидяне — жители города Данидин — скромно хвастаются, что их университет самый южный в мире. Ну что ж, а я самый южный русский, читавший в нем лекцию. После лекции обед, камин и ночевка в славной семье Филиппа Тэмпля, писателя и изысканного фотографа. Листая его книги, я завидовал ему и тем, кто карабкался по ледникам юга, до которых я так и не добрался.
Утром я летел уже на север. Через Крейсчерч (на ужине, в кругу русских, сквозь Олимпиаду и Афганистан продираться со своими литературными новостями) — в Веллингтон, столицу.
В силу непонятных мне обстоятельств никаких университетов в Веллингтоне у меня не было, зато запланирован был оперный театр. Господи, когда ж я был в последний раз в опере? Вспоминал, вспоминал и вспомнил — без малого двадцать лет назад — «Фауст» в парижской Гранд-Опера. Нужно же — забраться на край света, чтоб слушать Пуччини, «Богему». Мы со Степой малость всхрапнули, но в общем остались довольны. И музыкой, и актерами, и маленьким уютным залом с золочеными ложами и публикой, которая заполнила его до отказа. А я-то думал, что телевизор подорвал все планы зрелищных предприятий.
Степа — самое для меня примечательное на этих далеких островах Южного полушария. Степа — он же Стив Мардер — американец, уроженец Филадельфии. А жена русская, Галя. Я у них провел две ночи и три дня. Конечно же, угощали борщом (по возможности, везде в этих краях угощают борщом — «А у нас будет борщ. Вы любите?»). Немножко выпили. Говорит по-русски Стив куда лучше, чем Галя. Но это не так уж и удивительно — из России ее увезли совсем маленькой, шаталась потом по свету — но вот то, что все непристойные и матерные русские выражения Стив знает куда лучше и больше, чем я, — это повергло меня в изумление. Оказывается, тема его ученой диссертации «Русская блатная музыка» (музыка это не музыка, просто язык, оказывается). У Стива гибель книг на эту тему, словарей, исследований, трудов о русской каторге, современной «фене». Мне стало стыдно своей отсталости, и только словом «поц», которое он не знал, хотя оно давно уже обрело свое равноправие среди коротких, выразительных русских слов — я как-то реабилитировался.
Стив чудный парень, и я его полюбил, жалею, что мало у них пробыл — очкастый, застенчивый. Очень волновался, переводя выступление заезжего гостя на веллингтонском телевидении — вспотел, но перевел отлично. Любит все русское, много читал, но как и где применять блатной его энциклопедизм, ума не приложу. Разве что радовать меня и советских морячков, нечасто заходящих в Веллингтон? Не жену же отчитывать.
Может быть, благодаря Стиву и Гале полюбился мне Веллингтон. А может, лезущие в гору домики, серпантины гористых улиц и дорог, порт, опять же залив, восходящее над ним солнце. Не знаю. Но уезжать не хотелось.
Рано утречком Стив усадил меня в автобус Веллингтон — Окленд. Мы обнялись и расстались. Я рад, что смог потом из Парижа послать ему подарок — «Москва — Петушки» В. Ерофеева. Это он поймет.
От Веллингтона до Окленда рейсовым автобусом одиннадцать часов. Я был не то что обижен, но несколько озадачен - почему не самолетом? Но ей-богу ж, не прогадал. Нет, это не наш какой-нибудь Киев — Житомир — давка, мат, чудовищные тюки, озверелые лица торговок. Просторный, с громадными зеркальными стеклами автокар. Я сидел на месте № 1 и все одиннадцать часов не отрывался от сплошного стекла спереди. Не спал, не читал — смотрел.
То матовая, то блестящая, немыслимо гладкая с белой полосой посередине, с зарослями золотистого ковыля по бокам и дальними вулканами неслась мне навстречу дорога. И ничем она, новозеландская, не отличалась от других. Разве что американские чуть пошире, западногерманские чуть чище и глаже, на французских и испанских встречаются иногда и заплаты, а на второразрядных дорогах даже нечто вроде выбоин и ухабов...
Ухабы...
Дорога! Ох, дорога! — каждый метр с боя...
Владимир Тендряков... «Ухабы». Одна из лучших его вещей.
«Вася Дергачев хорошо знал ее капризы. Эту лужу, на вид мелкую, с торчащими из кофейной воды бугристыми хребтами глины, нельзя брать с разгона. В нее нужно мягко, бережно, как ребенка в теплую ванну, спустить машину, проехать с нежностью. На развороченный вкривь и вкось, со вздыбленными рваными волнами густо замешанной грязи кусок дороги следует набрасываться с яростным разгоном, иначе застрянешь на середине, и машина, сердито завывая, выбрасывая из под колес ошметки грязи, начнет медленно оседать сантиметр за сантиметром, пока не сядет на дифер...»
Поражаешься, не перестаешь поражаться... Месяцами кружатся вокруг Земли (самочувствие прекрасное!) герои-космонавты, какой-то там год скучает на Луне луноход, ракеты одна за другой за тысячи километров бухаются в акватории, а дороги...
Один весьма приличный и прогрессивный западный немец как-то признался:
— Что там ни говори, — параноик, убийца, — а ведь все-таки ему мы обязаны нашими автострадами и «Фольксвагенами»...
— Как мы своему — лучшим в мире метро, — парировал я.
И мы, несясь со скоростью сто пятьдесят километров в час, стали превозносить достоинства своих диктаторов. Один все же любил поглаживать кошечек, другой был обворожителен со своими секретаршами, третий писал трогательные письма своей дочери, и метро, действительно, самое чистое и бесперебойное в мире... Эх, взялся бы он за дороги.
Нет, этого никогда не будет! Никто не возьмется. Не нужны дороги. Хорошие. Торопитесь куда-то, пользуйтесь услугами «Аэрофлота». Дорога, машина — это свобода. Сел и поехал — не углядишь. Куда? Зачем? Сиди дома, смотри телевизор, на худой конец, пей — государству доход, тебе иллюзия свободы...
Ох, дорога! Каждый метр с боя!
Где-то посреди пути в Окленд нас пригласили в ресторан. На длиннющем столе аккуратненько разложено было все, о чем только можно мечтать, Не буду перечислять всех осетрин и лососей, но, подойдя к столу, я со щемящей грустью представил себе того самого везде и всюду воспетого простого советского человека перед всем этим изобилием нежно-розового, золотистого, хрустящего, поджаренного, тающего во рту. Господи, будет ли у нас когда-нибудь, ну, не лососина, а просто-напросто хлеб с колбасой встречать путника где-нибудь на остановке между Киевом и Житомиром или Конотопом? Ну, хотя бы в Нежине... Какие огурчики там были, прославленные, нежинские — вдоль поезда, на перроне ряды баб с ведрами: «берiть свеженькi, малосольнi...»
В Окленде я был уже на последнем издыхании. Меня, видимо, пожалели, выступлениями не утомляли, было только два. Зато возили на какие-то горячие источники, где по горло в теплой водичке обсуждали все те же афганские события, где-то на травке перекусили, вечерком попили чайку, и мое новозеландское турне закончилось.
Через день я летел уже из Мельбурна в Лондон.
Двадцать пять часов лету располагают к размышлениям. Почитаешь, подремлешь, полюбуешься в иллюминатор на облака, сверкающее море, пески аравийской пустыни и предаешься размышлениям,..
Два месяца вдали от всего. От домашних забот, телефонов, эмигрантских дрязг. Два месяца других забот, других пейзажей, лиц, событий, отношений.
На прощальном вечере в Мельбурне — Гога с Наташей, женой, весь день не отходили от плиты, жарили отбивные, — я говорил что-то о завязавшейся дружбе. Так положено говорить на банкете, устроенном в твою честь, но ей-богу же, я говорил от чистого сердца.
...Но это все русские. Где же австралийцы? Истинные, коренные?
Скажем прямо — не густо.
Можно было бы, конечно, солгать. Как большинство советских журналистов:
...К нам подошел прилично одетый, с печальными глазами старик. «Джентльмены, — сказал он, — если не трудно, дайте полдоллара. Я всю жизнь проработал, а сейчас, вот, приходится...» Ему трудно было говорить. Мы дали ему пять долларов, он поблагодарил и ушел неуверенной шаркающей походкой. Мы смотрели ему вслед и думали...
Нет, никто ко мне не подходил, полдоллара не просил, а в душу истинного, коренного австралийца так и не заглянул. Язык, природная застенчивость, отсутствие русских «ста грамм», растапливающих любой лед. Но те немногие, с которыми столкнулся, расположили к себе. Ни здесь, ни в Новой Зеландии, ни до этого на Гавайях, в Америке я не столкнулся ни с чувством какого-либо превосходства над другими, ни с национальной ограниченностью, спесью, бахвальством, всезнайством — наоборот: открытость и простота. Где-то я ощутил, может быть, недостаток любопытства — что ж, грех, но не такой уж большой — но чего начисто нет, это озлобленности. Той самой, нашей, в автобусе, троллейбусе, гастрономе, в очереди. Нету — и все!
Итог.
Дружба, бхай-бхай? Между кем и кем? На собраниях общества «СССР — Австралия»?
Кайл Вильсон, студент из Канберры, здоровый как бык, не без ужаса, но с восторгом вспоминающий свои московские возлияния, говорил мне.
— Бойкот, бойкот! Все вы за бойкот. И я вроде тоже. Но ведь нам так нужно общаться. Я не знаю, кто кому больше нужен. Они, московские ребята, мне или я им? Мне с ними интересно. Жмутся, что-то недоговаривают, озираются, а через день, два, недельку, да еще выпивши, вдруг раскрываются. И мы спорим всю ночь. И не боимся друг друга. Мне-то хорошо, бояться нечего, а им... Я понял, как им трудно, тяжело. Но чего-то они не понимают. А чего-то я. Надо общаться! Надо, надо, надо! А вы — бойкот! Не хочу я их бойкотировать. Хочу пить с ними водку — нет, не так много, как они, они каждый вечер хотят, а я нет, у меня утром голова болит, — и все-таки хочу. И потом по набережной. Песни петь... Как это? Я шагаю по Москве...
Милый мой Вильсон, как ты прав.., И голова потом болит, а надо...
Нечто подобное, не слово в слово, но почти, говорил мне и Дональд Райан в Гонолулу. Молодой, но уже закончивший курс в университете, занимает какое-то положение, тоже не дурак пропустить свои сто грамм. В Москве уже бывал, мечтает повторить.
Дональд Райан... Дэвид Грант... Сусанна Андерсен... Элла Уайсуэл... Леня Игудесман... Сонг-Чан-Сунг... Ги Амарханаяган... Евгения Семеновна Гинзбург...
Но это уже не Австралия. Вернее, еще не Австралия. Это за три месяца до нее. Это Гавайи. Гавайские острова. Они же Сандвичевы. Там и Гонолулу, то самое, далекое, заманчивое, загадочное, на аэродроме которого я приземлился в час десять минут ночи 8 декабря 1979 года. Из Лондона, через Северный полюс, Гренландию, с пересадкой в Лос-Анджелесе.
Ночь. Пусто. Никто не встречает. Почему? Черт его знает. Телеграмму послал. Жарко. Здесь лето. А в руках еще и пальто, будь оно неладно. Телефонов нет. Только адрес - Ист-Вест Сентер, 1777, Ист-Вест Род, Гонолулу, Гавайи...
К тому же суббота. В кармане сто долларов — не густо. И это идиотское пальто еще.
Ладно, не пропаду.
И не пропал.
Апарт. Или «в сторону» на театральном языке.
Если вы кому-нибудь из нынешних русских парижан вздумаете рассказать о своей недавней поездке в Гонолулу, не удивляйтесь, когда собеседник ваш скромно отведет глаза и, ни о чем не расспрашивая, заговорит о другом, не имеющем никакого отношения к Гавайским островам.
Феномен этот требует объяснения. Дело в том, что обычно, когда кто-нибудь из нас вечерком переборщит и следующие два-три дня пребывает не в самой идеальной форме, жена переборщившего, отваживая друзей и посетителей, говорит, что муж, мол, прихворнул, у него легкий гриппок. И все деликатно умолкают.
Но вот однажды... Свадьба. В Париже. Русская. Много приглашенных. Среди них некая семья — жена, сын, жена сына, внук.
— А где же «сам»? — недоумевает мать невесты.
— Он в Гонолулу.
— Ага... — понимающе улыбается мать невесты. — Теперь это так называется.
И с ее легкой руки теперь это только так и называется. Прошу учесть. Чтоб не попасть впросак. Рассказывайте уж лучше о своей поездке в Сингапур или на Багамские острова.
Знаете ли вы, где находится Рай земной? Не находится, а находился, поправят меня и подсунут пятьдесят первый том все того же Брокгауза и Ефрона, зная, что я большой поклонник его. И там, ознакомившись со статьей «Рай», я узнаю, что «Рай земной, Рай сладости, насаженный самим Богом для первых людей, находится, по выражению Книги Бытия, «на востоке» (от того места, где написана эта книга, т. е., вероятно, Палестины), в стране Эдемской».
Где же это она, страна Эдемская? Одни считают, что где-то между Тигром и Евфратом, другие — между Евфратом и Гангом, третьи называют Сирию, Месопотамию и Халдею, но все вместе считают, что всемирный потоп смыл с лица земли первозданный Рай, совмещавший в себе все, что было прекрасно в первозданной природе.
Я стою на совершенно других позициях. Что там было и смыло в незапамятные времена, то ли в Сирии и Халдее, то ли на берегах Евфрата, не знаю, но то, что Рай земной существует и поныне и находится на Гавайских островах — знаю точно. Я там был, мед-пиво пил, по усам текло и в рот даже попало.
Как-то утром позвонил мне Владимир Максимов.
— Ты любишь путешествовать. Хочешь в Гонолулу? Все во мне затрепетало.
— Спрашиваешь...
— Ну, вот и лети.
— А что там?
— Какой-то съезд писательский, конференция. Приглашали меня, а я не могу. Вот и звоню тебе, не заменишь ли меня?
— Дорогу оплачивают?
— И дорогу, и командировочные, и за выступление отдельно.
Из дальнейшего выяснилось, что существует на нашей планете некий организм, именуемый Ист-Вест сентр, нечто, объединяющее в себе высшее учебное заведение с научно-исследовательским институтом по проблемам Востока и Запада. Центр этот триедин — что-то в Сеуле, что-то в Коломбо (Цейлон), что-то на Гавайях, в Гонолулу. Раз в два года в одном из этих городов созывается писательская конференция. Съезжаются со всех концов света представители разных литератур (кроме соцреалистической — разумеется), знакомятся друг с другом, читают доклады, по вечерам коктейли, в выходные — экскурсии, поездки по острову. Переутомляться не разрешается — в два, а то и в двенадцать рабочий день заканчивается — гуляй, пляжься, загорай... Так и сказано было нам, участникам, человеком, фамилию которого мы только к концу конференции научились правильно и на одном дыхании произносить — Амираханаяган — симпатичным, бронзовым, всегда приветливым, улыбающимся цейлонцем, организатором и председателем нынешней конференции.
Так и чередовались дни. Один за другим. По утрам доклады — как трудно, мол, писателю на Западе, как многое ему мешает, — потом пляж, вечером через соломинку что-нибудь более или менее крепкое, закусывая одним из двадцати сортов гавайских ананасов или чем-нибудь не менее экзотическим. Ну, разве не рай?
В самом центре Тихого океана, на острове Оаху, у подножья Алмазной головы, я обнаружил все то, что так красиво рисовалось мне, когда я по каким-то причинам задумывался о земном Рае. Солнце, тепло, море, ласковый ветерок, пальмы немыслимой стройности, «Sunset'ты» — закаты, равных по красоте которым нет в мире, бронзовые красавцы туземцы и туземки, ну, и та самая беззаботность, которой, как не было в свое время в Киеве и Москве, не обрел я сейчас и в Париже.
В шесть часов утра меня будили птички на громадном, с гроздьями неведомых цветов, дереве под моим окном. Струями прохладного мощного душа смывал остатки сна и, включив вентилятор (становилось уже жарко), до открытия буфета погружался в книгу, о которой будет позже.
Потом вместе со студентами всех оттенков кожи (жил я в их общежитии — дай Бог мне такой комфорт в киевской писательской квартире) листал местную газету и, так как желание — лучший учитель языков, несмотря на скудное знание английского, понимал, что ничего хорошего с американскими заложниками не происходит.
В девять начинались заседания. Садился за парту, где указана была моя фамилия и, подперев голову рукой, делая вид, что внимательно слушаю очередного оратора — то ли американца, то ли австралийца, то ли пухлого узкоглазого южного корейца. Все до единого говорили по-английски, даже немец и поляк, единственные два участника конференции, с которыми я мог как-то объясняться. Хорст Бинек сидел в советском плену, а Тадеуш Новаковский, как все поляки, изучал когда-то русский в школе. С Сонг-Чанг-Сунг, по-парижски изящной кореянкой, я тоже кое-как объяснялся — преподает французский в сеульском университете (очевидно, и там на писательский гонорар не очень-то проживешь).
Увы, на международной этой конференции, кроме нее и еще одного англичанина, никто языка Корнеля и Расина не знал, и свой доклад, который мне специально перевели в Париже на французский, я прочел по-русски. Переводил, и говорят хорошо, студент-русист, но мне все же было немного обидно, что я не смог покичиться своим парижским произношением...
К двенадцати, максимум к двум, все кончалось. Вскочив в четвертый номер автобуса, я устремлялся на пляж Уайкики.
У американца, того, которого принято называть средним, господствует мнение — на мой взгляд, глубоко ошибочное, — что Гавайи, Гонолулу, Уайкики — это банановый курорт, место отдыха и развлечений, некий вариант флоридского Майами или французского Сен-Тропез на Лазурном берегу.
Не спорю, обретенный мною под гавайскими широтами земной рай отдает, и довольно сильно, буржуазным душком. Шеренги небоскребов вдоль пляжей, шикарные отели, всякие там «Хилтоны» и «Холидей-Инны», дорогие рестораны, ночные клубы, игорные дома.
Конечно, уж эксплуатируют, кто-то на ком-то наживается, дети бедных родителей, как в диккенсовские времена, пускают слюнки перед рождественскими витринами и завидуют другим детям, у которых есть деньги, чтоб сняться вместе с обливающимся потом Дедом Морозом у обвешанной игрушками елки, прилетевшей из Лос-Анджелеса или Сан-Франциско. Все это я знал, видел (скорее знал, чем видел) и, признаюсь, не тужил. Но о самом главном я все же не сказал.
Во всех моих восхитительных прогулках, на всех пляжах Уайкики и других, поменьше, под сенью пальм, в том же Макдональде или в соседнем кафе у самого синего моря, всегда и постоянно, утром, днем, вечером, сопутствовал мне один человек. И человеком этим была Евгения Семеновна Гинзбург.
В дорогу я взял с собой одну только книжку — вторую часть ее «Крутого маршрута».
Большинство из людей моего поколения считают, что прожили они если не самую легкую, то все-таки интересную жизнь. Многое, мол, повидали, пережили, во многих событиях принимали участие, есть о чем рассказать, о чем вспомнить. И, не всегда замечая, что злоупотребляем этим, мы вспоминаем и рассказываем, рассказываем и вспоминаем. Кто за рюмкой, кто без нее, а кто и с пером в руке, для потомков, так сказать. Кто хуже, кто лучше, кто на что-то закрывая глаза и обходя острые углы, кого-то выгораживая и обвиняя других, а кто и просто слегка фантазируя. (Категорию сознательных лжецов, разумеется, я отбрасываю.) К Евгении Семеновне Гинзбург все эти мерки — хуже, лучше — не применимы. Она видела и запомнила все. Во всех деталях. Ничего не забыв. Многое пересмотрев и переоценив в своей жизни. И написала обо всем этом — не боюсь своего определения — Великую книгу. Пишу с большой буквы, хотя в свое время мне крепко досталось за статью «Слова великие и простые», где я обрушился на первые, защищая последние. Книга Гинзбург — великая книга Жизни. Противоречивой, сложной, немыслимо тяжелой, страшной, висевшей иногда на волоске и в то же время возвышенной и прекрасной. И эта жизнь пронзила меня насквозь...
Нет, я никогда не позволю себе рецензировать эту книгу или как-то комментировать ее — она не нуждается ни в отметках, ни в похвалах, ни в цитировании каких-то лучших мест, — ее надо просто прочесть, впитать в себя и радоваться тому, что были и есть еще на земле люди, которые незапятнанными прошли все круги гулаговского ада, неся в себе Добро и щедро раздавая вокруг себя... Да простит мне читатель прописные буквы — говоря о Гинзбург и ее книге, я не могу без них.
Я познакомился с Евгенией Семеновной незадолго до ее смерти. В Париже. Мы сидели за вечерним столом, с белоснежной скатертью и всякими хрусталями и фарфорами, и вели светскую беседу о Лувре, Родене, парижских улицах. Первую часть ее «Крутого маршрута» я прочел давно, прочел запоем, но с тех пор прошло лет десять, а то и больше, появился солженицынский ГУЛаг, Шаламов, другие свидетельства и... В общем, говорили мы о Лувре, Родене, были ли вы на выставке Кандинского, обязательно нужно сходить. Ей повезло, прочитай я к тому времени вторую часть, каким градом вопросов засыпал бы ее. И слушал бы, слушал...
Один мой друг, ныне покойный, оказавший незабываемую помощь в литературной моей жизни, сказал как-то не без юмора, но вполне серьезно: «Вы написали правдивую книгу о войне. Не обижайтесь на меня, но чтоб написать вторую такую же правдивую и всем нам нужную книгу, вам надо было бы малость посидеть в лагере...»
Чаша сия, к счастью, меня миновала, и лагерная тема без моих в том услуг, с легкой руки Ивана Денисовича, растолкав всех, заняла подобающее ей место в русской литературе. И в жизни.
Книга Евгении Гинзбург на одном из самых почетных мест.
Я люблю Набокова, Бунина — великих стилистов, — но как благодарен я автору «Крутого маршрута», что избрала она для повествования самую естественную, самую доходчивую, а потому и самую нужную форму - простого рассказа. Вот так оно было, и так я об этом тогда думал. Потому (о памяти ее я уже не говорю, она феноменальна) рассказ этот, исповедь прекрасны. Другого слова я не нахожу.
...Торопливо вытершись после душа, я хватался за книгу. В автобусе своем я дважды проехал нужную остановку, углубившись в нее же. На пляже вместо того, чтоб любоваться бронзовыми гонолулянками, сжег себе спину, уткнувшись в книгу, забыв, что солнце здесь хотя и зимнее, но не парижское. Отрываясь порой от книги и глядя все же на изящных гонолулянок, я радовался за них и за тех вот ребят, прыгающих по волнам на своих дощечках, что они и слыхом не слыхали ни о Колыме, ни о Магадане, ни о нынешней нашей Потьме и Мордовии. А может, напрасно радовался. Надо знать.
Покидая, боюсь, что надолго, Гавайи, я отдал книгу Дэвиду Гранту — студенту, с которым сдружился, и сказал, не боясь внушительности своей интонации:
— Прочти! И передай другому. В этой книге много страшного про мою страну. Не пугайся и продолжай ее любить. Хотя бы за то, что есть еще в ней люди, подобные автору этой книги.
Дэвид выполнил указание. Думаю, что сейчас, а прошло уже больше года, нет на Гавайях человека, знающего русский язык, — а они все же есть, — который не прочел бы ее. И ахнул... А может, она уже и на английском вышла. Я радуюсь за Евгению Семеновну. Ее нет уже с нами. Она ушла из жизни. Ушла, может и рано, но с сознанием выполненного долга. Не всякому выпадает такое. И в Париже тоже удалось побывать, после всех своих Ярославок, Эльгенов и Известковых. Это не последняя из возможных наград. «Нет, Вася, и не заикайся о врачах, — говорила она сыну, — я приехала сюда не лечиться, я приехала в Париж. Дай мне им насладиться». И наслаждалась, она знала, что времени у нее осталось мало.
«И все-таки, — заканчивает она свою книгу, — все-таки я хочу надеяться на то, что если не я и не мой сын, то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу полностью напечатанной на нашей родине...»
Ах, как хотелось бы и нам дожить до этого дня.
С Дэвидом Грантом я сдружился по двум причинам. Во-первых, потому что он пошел в армию, да еще во время вьетнамской войны, чтоб немного заработать денег и построить дом своей маме, во-вторых же, потому что он знает об Аверченко и «Сатириконе» куда больше, чем я, русский писатель, — это тема его диссертации. К тому же отличный парень. И вот однажды повез он меня в Жемчужную гавань.
Какие красивые все названия. Алмазная голова — потухший вулкан над Гонолулу, — Золотой залив, Жемчужная гавань... Рисуются пейзажи, один красивее другого. Бриллиантовые россыпи, искатели жемчуга, сокровища индийской бегумы...
Но это не совсем так, Жемчужная гавань — это Пирл-Харбор.
Сорок лет тому назад, в памятный не только жителям Гавайев, но и всего мира, день 7 декабря 1941 года, двумя заходами, одним с востока в 7.40 утра, другим с запада через час пятьдесят минут, японская авиация практически вывела из строя крупнейшую базу американского флота в Тихом океане. В этот день началась война между Соединенными Штатами и Японией, Закончилась она через четыре года Хиросимой и Нагасаки.
В первом экстренном выпуске «Гонолулу стар буллетин» от 7 декабря 1941 г. с первой страницы громадными тремя буквами в вас стреляет — «WAR!» — «Война!» И короткое, четыре строчки сообщение Белого дома - «Японцы атаковали с воздуха военно-морские и военные объекты Пирл-Харбора, главной базы Тихоокеанского флота на острове Оаху». Дальше сообщалось, что налеты совершены с двух небольших японских авианосцев. В городе возникла паника, об этом тоже сообщалось. Из дальнейшего выяснилось, что к нападению на Пирл-Харбор японцы готовились загодя. Разработка операции началась еще в апреле 41 г. Все лето шла подготовка и репетиция на грандиозном макете гавани с точным расположением судов. Двадцать шестого ноября с одного из южных Курильских островов на выполнение задания вышла эскадра из 31 боевой единицы. В их числе не два маленьких, а шесть современных авианосцев — «Акаги», «Kara», «Хирну», «Сорну», «Шокаку» и «Зункану». Их поддержало два линкора, два тяжелых крейсера, один легкий, девять минных истребителей, три подводных лодки и восемь танкеров.
Удар был нанесен из пункта, расположенного в двухстах милях севернее острова Оаху. В первом рейде участвовало 186 самолетов, во втором — 170. Не вернулись на свою базу, как принято называть это в военных сводках, 29 самолетов.
Потери американцев не шли ни в какое сравнение. Повреждены были десятки кораблей (всего на базе их было около 150-ти), а большинство линкоров потоплено. Среди них «Вест-Вирджиния», «Калифорния», «Шоу», «Пенсильвания» и знаменитая «Аризона». Ее я помню еще с детства, по фотографиям в журнале «Природа и люди». Спущенная на воду 19 июля 1915 года, в 1916 она стала в строй, а в 1918 г. на ней отплыл из Нью-Йорка на Версальскую конференцию президент Вудро Вильсон.
В те годы сверхмощные корабли эти, с ажурными башнями, назывались «дредноутами» — в переводе на русский нечто вроде «внушающий ужас». Дважды — в 1920 и 1930 гг. — 31 000-тонный линкор был модернизирован и считался украшением американского флота. 7 декабря он был потоплен. Агония длилась девять минут. Вместе с ним погибло 1177 моряков. Тела только 75 из них удалось обнаружить.
Все затонувшие корабли после войны были подняты. «Аризона» осталась на месте своей гибели. Как памятник трагедии. Над ней воздвигнут мемориал.
Туда-то — почтить память погибших — и отправились мы с Дэвидом Грантом.
Сквозь прозрачную воду залива — рыбки туда и сюда — виден стальной, могучий, неподвижный корпус. Надводные строения спилены, над водой только два стальных кольца, основания боевых башен. Кружатся, галдя, чайки. Небо пронзительно голубое, с дрожащей дымкой на горизонте. Такое же прозрачное и безоблачное было оно и над Хиросимой, когда я, как и все, ударил специально подвешенной деревянной кувалдой по «Колоколу Мира» — чтоб больше никогда не было войны.
Какой?
Очевидно, под войной подразумевается теперь только атомная. Сколько их было после двух капитуляций — в Потсдаме и на крейсере «Миссури» — и не счесть. Корея, Вьетнам, Шестидневная, Судного дня, между Индией и Пакистаном, Ираном и Ираком, африканские, латиноамериканские, революции, восстания, интервенции, оккупации... Нет дня без войны, без дружеской руки помощи.
Та, что началась здесь, сорок лет назад, стоила Америке трехсот тысяч жизней. По сравнению с двадцатью миллионами наших относительно скромная цифра. Но стоит ли так уж орать на весь мир о цене, которую мы заплатили за Победу? Первые месяцы, дни, даже часы войны показали, чего стоят все эти «Если завтра война» и «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому!» Одиннадцать дней — с 22 июня по 3 июля — Верховный Главнокомандующий то ли пил, то ли, уткнувшись в подушку, терзался, кляня последними словами единственного человека, которому он поверил. О начале войны, заикаясь, сообщил согражданам Вячек Бараний лоб или Каменная задница, как называли Председателя Совнаркома друзья по гимназии. Только 3 июля вождь, надо полагать, опохмелившись в последний раз, подошел к микрофону. Весь мир понял тогда, как ему тяжело — стакан в руке дрожал, позвякивал, когда он наливал в него воду, в голосе не было столь привычной всем уверенности в своей непогрешимости. В прекрасном изложении одной бабушки-колхозницы, повстречавшейся на пути отступления, речь его звучала примерно так: «Братики, сестрички! Мне плохо, помогите...» — «Ну что ж, и поможем, — резюмировала бабушка. — А о чем раньше думал?»
Все это было давно, сорок лет тому назад... И в день сорокалетия начала войны, которую мы, большинство участвовавших в ней, называем Отечественной, а кое-кто Второй мировой или войной с фашистами, все мы, оставшиеся в живых, подымем свои бокалы, или стаканы, или кружки за тех, кто пал на поле брани или погиб в лагерях, — то ли немецких, то ли советских, — думая, что вершат правое дело. Выпьем, крякнем, ткнем вилкой в огурец и тут же нальем по второй... Но никогда эта вторая не подымалась за тех, кто подобно нам, защитникам и не столь освободителям, сколь покорителям — отдавал свои жизни в борьбе с одним и тем же врагом. Нет, никто из нас никогда не пил за американских ребят, погибших где-то в Бирме, на Филиппинах, высаживаясь на берег Нормандии.
Дэвиду Гранту едва ли минул год, когда началась война. Но он участвовал в другой войне, во Вьетнаме.
— Впрочем, какой я участник, — говорил он мне уже потом, когда мы сидели с ним в ресторане где-то на тридцатом этаже и под нами, и рядом с нами дыбились небоскребы Гонолулу. — Корабль наш стоял на рейде в Сайгоне, и не так часто спускали нас на берег. И в армию я пошел, как вы знаете, не из каких-либо патриотических побуждений. Поэтому и в университете застрял. Неловко как-то, в моем возрасте...
Потом мы как-то с ним опять заговорили о войне. Но не получилось. Как и все молодые американцы, он был против вьетнамской войны, я же... Впрочем, трудно и вряд ли имеет смысл убеждать молодого американца, что надо, мол, воевать в далеком, чужом Вьетнаме с еще более далеким и совсем уж непонятным коммунизмом. Как объяснить? Ведь страшнее и нелепее войны нет ничего на свете. Может, только фанатизм, но и он ведет к войне...
Я воевал, потом, сняв уже погоны, смотрел, как хоронят Неизвестного солдата в Киеве, где высится сейчас памятник Славы, бродил среди белых крестов Вердена, молча стоял у памятника жертвам Хиросимы, совсем небольшой арки, вокруг которой резвились детишки, и вот сейчас, опершись о перила, глядел вниз, где суетились рыбешки вокруг чего-то громадного, облепленного ракушками, бывшим когда-то страшным, внушающим ужас.
(Говорят, — сам я не читал, но слышал, — что Пирл-Харбор был спровоцирован самим Рузвельтом. Мол, без этого, без столь страшной побудительной причины, Америку никогда бы не заставить воевать. Правда ли это? Страшно как-то подумать...)
Вот тебе и Рай земной... Нет Рая на земле. Нигде!
Конференция кончилась. Я продекламировал свой доклад. Все остались довольны, хлопали, хотя, насколько я понял, участники конференции довольно туманно представляли себе, кто я такой, впрочем, так же, как и я, - ни одно имя не было мне знакомо. На прощание мы снялись группой — на шеи, как принято на этих островах, нам повесили венки немыслимо ароматных цветов (я привез свой в Париж, и через две недели он еще пахнул), и все мы, как положено в таких случаях, улыбались.
Уезжать не хотелось. На два дня я продлил еще свое «дольче фарньенте». В последний день с Леней-скрипачом совершили прощальный тур по Гонолулу. Прошлись по набережной. Поглазели на витрины местного ГУМа — «Хайат-Реженси» (кроме витрин, фонтаны, водопады, пальмы, висячие сады Семирамиды), посидели в кафе, выпив чего-то легонького и отправились на полинезийский базар — что поделаешь, без подарков домой возвращаться нельзя.
Базар оказался туристски-сувенирным; заработанные деньги пришлось все-таки потратить на коралловые и ракушечные ожерелья, которые, к слову сказать, в Париже произвели впечатление. Опять чего-то выпили под развесистым баобабом, купили напоследок голову пирата из кокосового ореха и собирались уже отправиться на пляж, когда я вдруг увидел нечто, приковавшее мое внимание. Чучело очковой змеи, кобры, и рядом с ней ощетинившийся белыми зубками серенький зверек на задних лапках.
Я застыл. Леня вопросительно на меня посмотрел.
— Это мангуста, — сказал он. — Единственный зверек, которого боится кобра.
— Знаю, — сказал я.
— И в схватке остается всегда победителем.
— Знаю, — повторил я, как завороженный глядя на соперников.
— Не плохо сделано, — сказал Леня.
— Не плохо, — повторил я и посмотрел на цену. Шестьдесят долларов. В кармане у меня было последних сто.
— Вы что? Намереваетесь купить?
— Намереваюсь.
— И почему-то колеблетесь?
— Колеблюсь...
— Тогда покупайте. И я купил.
Мне упаковали покупку в довольно большую картонную коробку, обвязали веревкой, сделали удобную ручку, и я пересек, бережно неся коробку весь американский материк, а затем Атлантический океан. Сегодня ощетинившаяся мангуста наводит страх на кобру у меня на книжной полке рядом с гавайским божком и высушенной водорослью Тасманова моря.
Теперь раскрутим фильм в обратную сторону.
Гимнастический зал 43-й Трудшколы. Сбор ОСГН — отряда скаутов гимназии Науменко — совсем недавно наша школа называлась еще так.
Торжественная линейка. Мы, двенадцати-тринадцатилетние «кишата» на самом левом фланге. Володя Осьмак, патрульный, подтянутый, тонконогий, в черных обмотках, проверяет амуницию - компаса и связки веревок. Мне же оказана великая честь — доверен посох со значком, треугольным флажком с изображением мангусты, именем которой назван наш патруль. До каникул эта почетная обязанность поручалась Вале Цупнику, но за лето я его перерос и значок вручили мне
Я был несказанно горд.
Вчера мы вернулись из похода. Ночевали в палатках в Кирилловской роще, разводили костры, расставили часовых — ночью могли напасть соперничающие с нами ПОКС — Первый отряд киевских скаутов, или БОКС — Волчий (!) отряд киевских скаутов. Ни тот ни другой не напали, но было таинственно, тревожно, каждый треск ветки казался неловким движением вражеского лазутчика.
Утром, невыспавшиеся, но переполненные гордостью — ползали в разведку, ходили по азимуту — вернулись в школу. Сейчас, выстроившись в шеренгу, ждали выноса знамени. Потом Коля Свенсон, начальник отряда, сокращенно «Начот», в присутствии директора школы, Александра Федоровича Музыченко — сокращенно АФа — в самой что ни на есть торжественной обстановке, под дробь барабана, должен был вручить нам скаутские лилии. С этого момента мы становились равноправными скаутами.
Начало церемонии что-то затягивалось. Ждали, говорят, задержавшегося где-то АФа. В щели двери показалась голова Коли Грюнера, старшего патрульного. Кивнул Юре Орлову, тот скрылся с ним в коридоре. За ним последовал младший Орлов, Котик. Потом вызвали начальника патрулей. В коридоре явно что-то происходило.
Вернулись патрульные. Володя Осьмак стал возле меня и, не разжимая губ, сказал:
— Сорви значок и засунь в рубашку. Живо! Я выполнил приказание.
— Посох мне!
Оглянувшись на дверь, он, не выходя из строя, прислонил его к стенке и застыл по стойке «смирно».
Отворилась дверь. Вошли пятеро наших — АФ, Свенсон, Грюнер, оба Орловых — и двое незнакомцев. АФ был бледен. Незнакомцы — один наголо бритый в кожаной куртке, другой в кепке и в синей косоворотке, — застыли у дверей.
АФ, невысокий, в пенсне, какой-то растерянный, провел рукой по волосам, глянул на Колю Свенсона.
— Смир-но! — скомандовал тот. Мы вытянулись.
— Дорогие друзья, — начал АФ и, очевидно, не уверенный в правильности своего обращения, кашлянул и опять провел рукой по волосам. — Дорогие школьники вверенной мне школы, — голос его дрогнул. — Сейчас начальник отряда прочитает вам приказ по отряду скаутов гимназии Науменко... гм... гм... ныне 43-й Единой Трудовой школы. — И в сторону Коли. — Прошу.
Коля — наш кумир, высокий, широкоплечий, златокудрый, как викинг, — сделал шаг вперед.
— Приказ по отряду скаутов гимназии Науменко, — он сделал ударение на двух последних словах. — Скауты! С сегодняшнего дня по решению вышестоящих властей ОСГН, отряд скаутов гимназии Науменко, — опять подчеркнуты эти два слова, — считается распущенным. Всем разойтись по домам. Тихо и спокойно. От своего имени выношу всем благодарность. Спасибо, скауты... — тут его голос тоже дрогнул. — Р-разойтись!
Обычно, после этой команды мы превращались в веселое, буйное стадо. Сегодня, ошарашенные, онемевшие, потоптавшись, поодиночке стали выходить. Начальство и те двое куда-то растворились, мы не заметили, когда и куда. Проходя мимо и не глядя на меня, Володя Осьмак тихо сказал:
— За мангусту отвечаешь головой... Жди указаний.
Валя Цупник, мой друг, шепнул — «Вечером у меня». Я вышел в коридор, свернул в вестибюль, У входа на улицу стояли двое. Не те, другие, помоложе. Сейчас они увидят вздувшуюся мою рубашку и один из них положит мне руку на плечо и скажет — «Именем...» Кого? Не короля же, а кого?
Но никто меня не остановил, не положил руку на плечо, не посмотрел даже в мою сторону. Стало обидно.
Колю Свенсона — викинга, красавца, любимца нашего — я больше никогда не видел. Когда его арестовали, не знаю, но из лагеря он не вернулся. Колю Грюнера, отсидевшего свое, я встретил через сорок лет. Он тоже был рослым и красивым, сейчас же стал белым, как лунь. Но такой же подтянутый, стройный. Работал инженером, увлекался яхтой, в свои семьдесят... В мае каждого года приглашал к себе — у него на Лукьяновке был изумительный сиреневый сад. Не с кустами, а с деревьями. После визита к нему мой дом тоже превращался в сад.
Уже здесь, на Западе, я узнал, что Коля погиб. Во время туристского похода на Кавказ. Переплывал бурную речку и то ли утонул, то ли свалившимся камнем убило. Как-то не верится. Не мог Коля утонуть. Он все умел преодолевать. Даже лагерь...
— Володя Осьмак сказал вам: «Жди указаний!» Вы дождались?
— Дождался... Но все это было уже не то. Раза два или три наш патруль собирался у него на квартире. Однажды мы даже в поход пошли. Собрались где-то за городом в установленном месте, пошли в лес. Но костров уже не разжигали, возвращались домой, озираясь по сторонам. И не было Коли Свенсона, и лилий мы так и не получили... На смену нам пришли «юные спартаковцы», «юные ленинцы». Теперь они называются пионерами. Знаете, что это такое?
— А как же! Я был пионером.
Мальчика, сказавшего это, я давно уже приметил среди остальных ребят — повыше, бойчее, с пробивающимися уже усиками.
— Ты что, недавно из Союза?
— Ага...
— Ну вот и прекрасно, расскажи ребятам про пионерскую жизнь.
— А что рассказывать? Тоска собачья... Все больше об отметках. За тройку, я не говорю уже о двойках, прорабатывали...
— А что это значит «прорабатывали»?
Спросил кто-то из заднего ряда, и мы с бывшим пионером переглянулись и рассмеялись.
Все это происходило в Мельбурне. На нашем языке это называлось когда-то «сбором». Скаутский сбор, слет. В пригородном доме ихнего «начота» собрались русские скауты. Для встречи с бывшим скаутом из России. Славные, симпатичные ребята. А форма... Даже сейчас, через столько лет, я с завистью смотрел на нее. Эх, нам бы такую! Как мечтали мы тогда о стетсоновских шляпах с полями, защитных рубашках с карманами, широких кожаных поясах с карабинами, на которых болтались бы перочинные ножики с четырьмя лезвиями и всякими там шилами, отверточками, пилочками... Я до сих пор застываю перед витринами охотничьих магазинов, где столько финок, кинжалов, ножей, один другого заманчивее, блестящее, острее...
(В доме Тычинских, на Любартовской, 24, в Люблине, доме, который я часто навещал из госпиталя, где кормили меня обедами, и какими, на стене в детской комнате висела финка. Та самая, о которой я мечтал с детства, — острая, как бритва, с костяной рукояткой, в кожаных ножнах. Я пускал на нее слюну, но мои намеки до хозяев почему-то не доходили. В последний день, придя прощаться, я зашел в детскую комнату, долго смотрел на финку. Может, взять? А? Минута терзаний и... не взял. Слава Богу! А был на грани...)
Недавно из Мельбурна в письме пришла ко мне скаутская лилия. Австралийских русских скаутов. Маленькая, очень изящная, с Георгием Победоносцем и «Будь готов!» Через пятьдесят с чем-то лет с того самого дня. когда мне ее должны были вручить, но не вручили, я прикрепил ее к борту своего синего пиджака с золотыми пуговицами, который на языке знатоков называется «блазер». Очень красиво, очень идет.
Всю жизнь задавал себе вопрос (да и сейчас задаю), почему в Ленинграде до сих пор стоят цари? Почему не снесли? Ни Медного всадника, ни другого, перед Инженерным замком — «Прадеду правнук», ни «Колокольчик» — Екатерину Великую, ни даже такого уж плохого Николая — «палкина» перед Исаакием? Только Александра III, на площади Восстания, заменили Ильичом (знаменитое «Пугало», на мой взгляд, одна из лучших работ Паоло Трубецкого, до сих пор терпеливо ютится во дворе Русского музея). Во всех городах снесли, а в колыбели сохранили (в Киеве, кстати, Александр II тоже скучает, опершись на шашку, во дворе Русского музея). Что это, мудрость и упорство Зиновьева, первого ленинградского вождя? Что-то не верится. Но вот стоят же, тираны и кровопийцы...
В Гонолулу тоже в самом центре города стоит король. Почему-то в римском шлеме и тоге, но только черный. Это Камехамеха I, родоначальник династии, покоривший в конце XVIII века все племена и посадивший себя на престол. После него было еще четыре Камехамехи — II, III, IV, V. В честь их, их жен и последующих королей и королев названо чуть ли не половина всех улиц Гонолулу. А ведь последнюю из королев Лилиуокалани американцы просто скинули (кажется, даже процесс ее был), а райские острова аннексировали. Есть такое слово - аннексия — «присоединение той или иной области или края к другому государству, не основанное на формальном акте отречения прежнего короля» (Б. и Э., т. II). Что побудило к этому американцев - то ли нехватка сахара и ананасов в метрополии (тем и другим Гавайи славятся), то ли удобная стоянка флота в самом центре Тихого океана, но на современном языке это называется колониализмом, и его принято теперь стыдиться.
Американцы почему-то не стыдятся, превратили острова в 50-й штат и, насколько я понял, жить в этом штате вряд ли хуже, чем в добровольно вошедших в созвездие равных Советского Союза Литве, Латвии или Эстонии... Не берусь судить (не защищать же мне колониализм!), но особого уныния на лицах нынешних гавайцев я не обнаружил. Скорее наоборот. Хотя, разумеется, королеву Лилиуокалани мне очень жалко. Впрочем, умерла она в глубокой старости, в собственном доме, став простой Лидией Доминис, по имени своего мужа-американца.
Все это я узнал, сидя в самолете Гонолулу — Сан-Франциско и листая небольшую брошюру «The women of old Hawaii» — «Женщины старых Гавайев», не до конца все понимая, хотя и пользуясь карманным словариком.
Понял я, во всяком случае, что женщины Гавайских островов всегда были красивы и музыкальны, к тому же принимали активное участие в управлении государством. Со страниц брошюрки смотрели на меня темнокожие, широконосые, губастые дамы в декольте, диадемах, кружевах и орденах, и, говорят, каждая из них принесла какую-то пользу своим подданным-островитянам — та госпиталь открыла, та школу, а та была ревнительницей старинных обычаев — хула — ночного священного танца при кострах.
Были у них свои «тайны мадридского двора». Камехамеха IV, например, приревновал свою жену Эмму к собственному секретарю Генри Нильсену и как-то ночью, предварительно крепко выпив, пришел к нему домой и выстрелил из дуэльного пистолета. Не оправившись от ран, Нильсен вскоре умер, вслед за ним при невыясненных обстоятельствах и четырехлетний наследник Альберт. Через пятнадцать месяцев, морально раздавленный постигшими несчастьями, умер и сам король.
Редчайшей красоты, говорят, была принцесса Каиулани, племянница и наследница последней королевы Лилиуокалани. Глаза ее — большие, черные, печально-задумчивые — покорили в свое время Роберта Луиса Стивенсона, и он посвятил ей поэму. По отцу она была шотландкой, мать же царских кровей, принцесса Мириам Ликеликс.
Неисповедимы пути Господни. Завершись нормальным браком роман «принцессы павлинов» (она любила птиц, в частности павлинов) с неким японским принцом, судьба островов сложилась бы, возможно, иначе. Но брак не состояся, и в возрасте двадцати четырех лет красавица принцесса, опять-таки при загадочных обстоятельствах, скончалась.
Все это я вычитал в брошюрке из тридцати страничек, а прочитай я трехтомный труд Ральфа Куикендала «Гавайское королевство» или «Историю Гавайев, рассказанную королевой Гавайев», той самой, последней, я бы мог поведать еще много интересного, но книг этих я никогда в жизни не прочту, поэтому на истории так полюбившихся мне островов поставим пока точку.
Да и жизни моей райской, гонолульской пришел конец. Раненьким декабрьским утром отвез меня Дэвид Грант на аэродром. Обнялись, пожелали друг другу успехов, я вручил ему «Крутой маршрут», он мне баночку гавайского меду, подарок матери, и мы расстались. «Серебристая птица взмыла» — внизу проплыли небоскребы, гавань, Уайкики (а вон и отель «Шератон», у подножия которого я расстилал свои полотенца), Алмазная голова, вдали жемчужный Пирл-Харбор — и через три с чем-то часа приземлилась в аэропорту Сан-Франциско.
Умереть, не повидав Сан-Франциско, нельзя. Особенно нам, киевлянам, затаившим глубокую обиду на город, вырвавший у нас славу красивейшего в мире.
Так красивейший или нет? — жду вопроса. — По праву ли получил первую премию на каком-то там конкурсе «мастеров»?
Не таясь, отвечу — ну, конечно же, Киев красивее всех, что там говорить, но, как человек объективный, не буду вступать в спор ни с одесситами («А наша лестница с дюком?»), ни с ленинградцем («Невы державное теченье, береговой ее...» Знаем, знаем, и про гранит, и про Достоевского), ни даже с самим собой, ныне парижанином («Пройдитесь по мосту Александра III, в час заката...»). Но, если говорить все же о Сан-Франциско, скажу с присущей мне правдивостью - таки да! (Простите киевский акцент, я все же киевлянин...)
На этом бы, на этой констатации (против правды не попрешь) и кончить бы о Сан-Франциско. Как и о Нью-Йорке, ничего нового не скажу. После всех Джек Лондонов и миллиона других книг, да еще пробыв там жалкую какую-то неделю, что я скажу о нем нового?
Но есть одно — вернее, два, — о чем умолчать не могу. Первое — пусть и мелочь (во всяком случае, на фоне небоскребов Ап-Тауна), но для меня существенная, а главное, трогательная. Речь идет о милом, таком уютном, более чем архаичном, неистребимом (хотя именно за архаичность чуть не был упразднен), бесконечно оказавшимся милым моему сердцу — знаменитом сан-францисском трамвайчике.
Крохотный, неторопливый, карабкается он себе по крутым улицам города (чуть не сказал Фриско — жители города презирают это название, это позволяют себе только туристы), и не упомянуть о нем не могу.
Я люблю трамваи. Возможно, потому что их становится все меньше и меньше. Особенно люблю женевский — номер 12-й, — первый в Европе и единственный, сохранившийся в городе. (В Киеве был первый в России, и мы этим очень гордились.) Я люблю этот трамвай, тренькающий допотопным звонком, возвращающим в детство (о, где вы паровозные гудки?), удобный, полупустой, как-то по-особенному гудящий на заворотах. Но есть у него соперник. И серьезный. Это и есть сан-францисский, совсем крохотный, в забавных старомодных рекламах, всегда набитый до отказа, увешанный гроздьями пассажиров. Площадки там открытые (как у нас в свое время в Киеве - Господи, никак не избавлюсь от параллелей), и на них, на ступеньках, держась на одной ноге, вцепившись немеющей к концу пути рукой за поручень, а иногда за открытое окно, висят — нет, не герои, — а куда-то всегда торопящиеся американцы, жители этого славного (да-да!) города. Ну, и туристы.
И я повис, как в школьные годы на восьмом номере, всегда опаздывая на занятия. Одной ногой упершись в ступеньку, а рукой уцепившись за что-то или кого-то. И так проехал весь путь. Снизу доверху.
Ах, какое это удовольствие! И в детство окунулся, и испытание выдержал. И даже билета не купил — какой рукой полезешь в карман — не в зубах же держать монету...
Трамвайчик — первое, о чем не смог умолчать. Второе — мост. Да-да, тот самый, знаменитый, Golden Gate — Золотоворотский, как назвали бы его киевляне (есть у нас остатки ворот XI века и жалкий скверик вокруг), тысячекратно прославленный и красующийся в миллионах открыток и изданий. Тем не менее и я осмеливаюсь воспеть его!
Есть в нем нечто, сразившее меня. Нет, не размеры, не легкость, не ажурность, не ввысь устремленные арки (нью-йоркский Веразано-бридж не меньшее чудо техники), а нечто более возвышенное — дружба его с туманом.
Сан-францисский туман — особый туман. Он не сплошной, а рваный, подползающий, стекающийся, клубящийся. В силу каких-то там природных условий (токи воздуха с Залива в Океан или наоборот — не знаю) он незаметно подкрадывается к мосту и обволакивает его. Снизу, сверху, сбоку, со всех сторон, а то и совсем скрывает его. И вот, когда мост начинает вдруг появляться, то тут, то там, то одной аркой, то другой, а вокруг клубы чего-то белого, сизого, розового, а сверху миллион чаек, и солнце, то восходящее, то заходящее, а сквозь это еще и город с уступами, сталагмитами небоскребов — вот тогда...
Любимая фраза людей, выдающих себя за знатоков искусства — «Часами могу стоять перед Мадонной Рафаэля!» Чушь! Десять минут максимум, и то, когда кругом пусто, чего никогда не бывает, а вот пред Голден-гэтом...
В этом поминутном рождении чего-то нового — цвета, арки, пробегающего внизу пароходика, в самих клубах тумана (кто из английских гениев, кроме Тернера, любил туманы и облака? — знатоки, подскажите), в этом и есть то наслаждение, которое вызывает созерцание...
Клод Моне, воскресни! Приезжай в Сан-Франциско!
После Сан-Франциско был Нью-Йорк. Но о нем ни слова. Слишком много там сейчас русских, новых, свеженьких (и газеты свои стали даже издавать!), чтоб я отважился с ними соперничать своими поверхностными впечатлениями. Пошатался с недельку по городу желтого дьявола, встретил там Новый год, сел в самолет и через шесть часов оказался в Париже.
Я не заметил этих шести часов. Я читал, Читал книгу, которой и закончу свое повествование. Читал не отрываясь. Запоем.
Мигом проглатывал приносимые мне изящным стюардом яства и опять в книгу. Плюя на кино, над сиденьем собственная лампочка. Я читал...
«...Сталин подошел к радиоле и начал ставить пластинки. Русские песни, грузинские. Потом он поставил, значит, танцевальную музыку и начали танцевать. Единственный признанный танцор был у нас Микоян, Анастас Иванович, но все танцы его, и русские, и кавказские, брали свое начало с лезгинки. Танцевал, значит. Потом Ворошилов танцевал. Танцевали все. Я никогда ног не передвигал, из меня танцор "как корова на льду", но я тоже танцевал. Каганович танцевал. Танцор тоже не более высокого класса, чем я. Маленков тоже такой. Булганин когда-то танцевал, видимо, в молодости. Он русское что-то вытаптывал в такт. Сталин тоже танцевал — что-то ногами передвигал и руки расставлял. Тоже, видно, человек никогда не танцевал... Насчет Молотова... Тот уже был танцором, так сказать, городским. Я не знаток, но в моих глазах он был, так сказать, танцор первого класса, значит...
Пели хором. Пели, значит, подпевали пластинкам, которые заводил Сталин. Я бы сказал, что настроение было хорошее».
Вот так, дорогой ты наш волюнтарист, проводили вы, оказывается, время. Отмывали горячей водичкой кровь с рук и к товарищу Сталину ножками топать, под пластинки танцевать...
Кто-то еще сомневался в подлинности записей Хрущева. У меня никакого сомнения. Читал и слышал его голос, его интонации, узнавал все эти «значит» и «так сказать». Читал, и мурашки по спине пробегали. Как будто бы все знаю, видел, пережил, но вот, оказывается, не все.
«...Тимошенко попросил меня, чтоб я присутствовал на одном заседании военного совета. Я упирался. К этим делам Сталин очень ревниво относился, если кто-нибудь из членов Политбюро, как он говорил, влезал в военные дела. Ну, Тимошенко доказывал мне, что там вопросы нашего Киевского округа стоят, и я как член Военного совета он просил меня, чтоб я присутствовал, и посмотрел, как решаются эти вопросы. И я в конце концов согласился.
Председательствовал нарком Ворошилов. Там были главные персоны — Кулик, Мехлис, Штеменко и другие. Но они ничего не решали, решал Ворошилов. Не припомню фамилию начальника штаба — старый военный, еще с царских времен. Меньшее влияние имел Мехлис, хотя и пробойной силы был и с большим удельным весом в глазах Сталина. Штеменко тоже считался человеком, но он был сумасшедшим человеком. Кулик тоже честный человек, но он был глуп. Поэтому на том заседании Тимошенко и хотел, чтоб я посмотрел, что это за спектакль, который проводился под руководством Ворошилова. Я просто не знаю, с чем это можно было сравнить, потому что это были люди, которые не признавали друг друга, каждый по-своему горячился, кричал, стучал кулаком. Ворошилов отвечал тем же самым, и вопросы не решались...»
А ведь пели же мы, пели — «С нами Ворошилов, первый красный офицер!» И «ворошиловскими стрелками» были, сто из ста выбивали.
Пятьдесят второй год. Сталин надумал вдруг собрать съезд. Девятнадцатый. То, что пишет о нем Хрущев, ни в какие рамки не влезает. Цитировать не буду — только одну фразу приведу, в которой как в капле воды...
«...Одним словом, значит, партия, Центральный комитет, никакого не принимал, так сказать, коллективного руководства. Все делалось от ЦК и единолично Сталиным, значит. Президиум ЦК, значит, подписывал. Это все Сталин. И он даже не спрашивал членов Президиума, значит, а... так принимал решение и публиковал, значит...»
Нет, не буду комментировать. Скажу только: книга Хрущева — документ века. Подобного не знало человечество. Но как же равнодушно, более того, с каким недоверием отнеслось оно к этому бестселлеру, продиктованному полуграмотным человеком, более десяти лет царствовавшим в нашей стране.
Хорошо, согласимся, не самый плохой из всей шайки — все-таки XX съезд, разоблачение Сталина, — но как подумаешь только, что человек этот за всю свою жизнь только две книги прочитал - Н. Рубакина, популяризатора, в юные еще годы, и какого-то поэта Махиню — в тупик становишься. Даже ты, всезнающий. Исключением был бы, очевидно, только Св. Фома Аквинский, который сказал, что не может верить человеку, который прочел только одну книгу. Никита все-таки две. (К слову, после упоминания в каком-то своем выступлении об этом Махине, все бросились искать его и обнаружили какие-то стишки в донбассовской многотиражке. И сразу же переиздали. А самого поэта и след простыл, так и не обнаружили...) Никита, бедняжка, признавался (кажется, Корнейчуку или Малышко, которого нежно любил): «Поверьте, очень люблю читать, но за день так намаешься, что вечером возьмешь книжку, на второй минуте засыпаешь. А читать очень люблю, ей-богу...
И никто его уже не вспоминает. А если вспоминает, то только с приставкой «кукурузник». И могила его на Ново-Девичьем сиротливо одинока и букетика цветов на ней даже нет. А ведь не только зло делал...
И напоследок, томясь, всеми заброшенный и забытый, у себя на даче, решился вот на такой отчаянный шаг — тайно продиктовать то, что не выветрилось окончательно из склерозирующей памяти. Потом, правда, отрекся, отверг вражеские инсинуации в «Правде», но дело сделал.
Документ века — я не боюсь этого утверждения. Рассказ о подготовке и ведении позорной войны с Финляндией, или о первой реакции Сталина на договор с Гитлером («Обманул-таки его... Обманул!») стоит того, чтобы их исполняли и записывали на пластинки чтецы ранга Журавлева или Шварца... Я сам в кругу друзей, чуть подвыпивши, позволяю себе маленькую радость — читать вслух Хрущева.
В переводе, книга, конечно, не звучит. Теряется весь аромат, если это слово в данном случае применимо — но я бы положил ее на стол Рейгану — очень полезное чтение. Сквозь дебри безграмотного трепа просвечивает столько правды, и такой страшной...
Я кончил читать. Самолет начал снижаться. Через десять минут Руасси, аэропорт Шарль де Голль. Я сунул маленькую желтенькую книжечку в карман и...
Нет, не могу я на этой трагической, вернее, трагикомической ноте (клоунады хватало в нашем дорогом и любимом) кончать свои записки.
Концовка должна быть все же мажорной. Поэтому предлагаю на прощанье, чтоб не осталось горького осадка, совершить со мной небольшую прогулку. Прогулку по Парижу. Он стоит того, лучший, прекраснейший город мира. А Киев, Киев? Сан-Франциско?! Нет, лучший и прекраснейший город, город моего детства и, надеюсь, последних дней моей жизни, — Париж!
Я приглашаю вас в парк Монсури...
В дни моего детства это была самая окраина Парижа, между Порт д'Орлеан и Порт Жантийи. Дальше шли «Ле фортиф» — фортификации — остатки валов и фортов времен обороны Парижа в горестную Франко-прусскую войну. Сейчас здесь Университетский городок, бульвар Журдан. А тогда, когда я лепил в парке бабки из песка, на пустыре, под валами занимались шагистикой солдаты. «Ле пуалю», как в годы первой войны они назывались, были еще в красных шароварах и кепи (кажется, после Марны только спохватились и нарядили всех в голубое), и мы, детвора, млели, глядя на них, а если еще подхватит да подбросит вверх, тут и слов не хватало...
Нас было трое. Тотошка, Бобос и я. Пас нас Тотошкин папа — Анатолий Васильевич Луначарский, тогда еще эмигрант, парижский журналист. Жили мы все в одном доме на рю Ролли, 11. Было нам года по четыре. Папа писал свои статьи, сидя на скамеечке под платанами, а мы лепили бабки, возились, дрались, кормили уток в пруду, «лэ гага», как мы их называли.
Тотошка погиб на фронте в Новороссийском десанте, Бобос — один из крупнейших советских кинодокументалистов, лауреат множества премий, я же брожу, вот, по дорожкам парка Монсури.
Детская память что-то сохраняет. Рю Ролли, 11, угловой дом. Вот то, по-моему, наше парадное. Захожу. Очень крутая, витая лестница. Не помню. А то, что на углу была лавочка, где я покупал конфеты, помню. И то, что прилавок становился все ниже, все легче и легче было протягивать свою монетку, тоже помню. Сейчас какая-то контора, сверкающие витрины.
Вход в парк был не с угла, как теперь, а вон там, чуть подальше. Сохранился. Налево будет пруд. Есть! И детский чей-то лепет — лэ гага! И «лэ гага» — вот они, плавают, ныряют. До чего ж хорошенькие — с зелеными шелковыми головками, и пестрые, и белые, и черные с белыми головками. И папы и мамы сидят, читают, что-то пишут, а ребятня галдит, бросает крошки в пруд...
В конце пруда должен быть маленький театрик — «гиньоль» — марионетки. Господи, есть! Крохотная сценка и три-четыре ряда лавок. Открыт по субботам и воскресеньям. С трех часов. Сегодня, увы, четверг...
Ливанский кедр. Разлапистые, мохнатые ветки. На нем табличка — ему 80 лет, — почти мой ровесник! — и высотой он 18 метров (во мне, увы, только метр семьдесят)...
Каскад с площадкой наверху — скульптура, какие-то негры несут убитого льва — не помню. Мостик через RER — скоростное открытое метро — вторая часть парка. Красивый парк и детворы полно. На чем-то раскачиваются, с чего-то скользят, гоняются друг за другом, ревут...
Присел, закурил среди детворы и мам. Одна из них, черненькая, изящная, раскачивает коляску, покуривая под каким-то обелиском. На обелиске в медальоне чей-то профиль и полустертая надпись.
«Памяти полковника Флеттерса, — с трудом разбираю я, — главы исследовательской группы по строительству транссахарской железной дороги и его компаньонов, — дальше идет шесть фамилий — врача, инженера, лейтенантов, — погибших в Африке от руки туарегов 16 февраля 1881 года...»
16 февраля 1881 года... А сегодня 13 февраля 1981... Через три дня будет сто лет!
Я приду в этот день сюда. Придет ли еще кто-нибудь?
Мы с приятелем шли выпить по кружке пива. К нам подошел молодой человек и с нерусским акцентом спросил, где бы он мог купить несколько пачек чая.
— Чая? — удивились мы.
— Да. У нас, в Праге, плохо с чаем.
— А вы из Праги? Турист?
— Нет. Еду в отпуск.
Оказывается, инженер, работает на строительстве чего-то в Новочеркасске и... Короче, вместо пива мы взяли, к великому удивлению продавщицы, бутылку шампанского и тут же, в сквере, распили ее.
— Когда твой самолет?
— В пятнадцать тридцать.
— А в Праге когда будешь?
— Через полтора часа...
— Ладно... Иди тогда за чаем. За Главпочтамтом налево есть специальный магазин «Чай», и через полчаса будь здесь. Есть маленькое дело.
Через полчаса мы встретились.
— Вот этот вот букетик, — это были, кажется, пионы, — положи, пожалуйста, на могилу Яна Палаха. От двух русских.
У чеха показались слезы.
— Обратно когда будешь?
— Через две недели.
— Позвони. Обязательно. Вот телефон.
— Есть.
Мы посадили его в такси, — на рейсовый автобус он уже опоздал, — а сами пошли по Александровской, ныне почему-то Жданова, вверх, в Липки.
У памятника Славы, могилы Неизвестного солдата ни молодоженов, ни туристов — еще рано. Вокруг пламени лежат венки. На один из них мы положили наш второй букетик. В универмаге, на углу Ленина, купили три ленточки — красную, синюю и белую — цвета чехословацкого флага — обвязали ими букетик, — а между цветов всунули записку: «За нашу и вашу свободу».
Назавтра записки уже не было. Букетик лежал. Он пролежал дней десять, не меньше, с ленточками, честь честью, никто его не трогал.
Через две недели позвонил чех. На этот раз было уже не шампанское, а нечто более крепкое.
— Рассказывай...
— Положил ваш букетик. Совсем свежий, не завял, Я его мокрой тряпкой обернул... На кладбище не пустили. Вернее, к могиле. Охраняют... Я пошел на Вацлавскую площадь. К памятнику королю Вацлаву. На то место, где Ян сжег себя. Ходит часовой. Я подошел и говорю: «Тут двое русских просили положить эти цветы сюда. Можно?» Парень, солдат, посмотрел на меня, ничего не сказал, повернулся и отошел. Я положил цветы. Через два дня пришел, проверил. Лежат...
В понедельник, 16 февраля я пришел в парк Монсури. К обелиску. Пусто. Обед. Две тетки, типа консьержек, оживленно что-то обсуждают.
Нет, никто не вспомнил в этот день полковника Флаттерса и его компаньонов...
Цветов я не нашел. Понедельник, все закрыто... Сорвал, рискуя быть оштрафованным, веточку чего-то зеленого с красными ягодками и другую, вроде остролистника, и положил к подножию обелиска.
Был солнечный, яркий, почти весенний день. Парижане обедали.
И опять не получилось мажорной ноты. Где она? Где ее искать? Пошел искать в детство, а напоролся на смерть. И забвение...
Мажор! Я ищу тебя, откликнись!
Может, ты в Польше? У подножия трех крестов в Гданьске? С якорями вверху. Вера и Надежда...
Во что верить? На что надеяться?
В силу духа? Солидарность?
Верю и надеюсь.
ЭПИЛОГ
Зачем он? Поставил точку, «point final», как говорят французы, и принимайся за новое.
Да, но у большинства великих писателей есть эпилог. В «Войне и мире» больше ста страниц, даже из двух частей, с диалогами. А в «Преступлении и наказании» в самом конце сказано нечто вроде обещания, что «тут же начинается новая история», которая «могла бы составить тему нового рассказа, — но теперешний наш рассказ окончен».
— Но то у великих, — скажут мне, — классиков, у них и действие, и сюжет, и герои. А у вас...
— Ни сюжета, ни героев, согласен. И никто меня не спросит, как, например, Тургенева: «А что же стало потом с Лаврецким? С Лизой?» А он, хитрец, так и не ответил. Встретились, мол, потом в дальнем монастыре. А что подумали, что почувствовали? Разводит руками — «Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно указать — и пройти мимо».
— Все писатели хитрецы и обманщики, но...
— Но никто их за обман, утайку, недоговоренность не судит (судят за другое, знаем), а все же какие-то точки над какими-то i ставить иногда надо. Для этого и пишутся «Театральные разъезды», эпиграфы, обычно последнее, что придумывается автором...
— Да, но «Театральный разъезд» был написан через шесть лет после «Ревизора», а с эпиграфом, дорогой Виктор Платонович, вы поступили несколько экстравагантно, цитируя самого себя...
— Вот-вот-вот! Именно потому, что, переплюнув Катона, я начал со своего «Карфагена», хочу, считаю даже необходимым (и не только для композиции) им и закончить. А то, что вы, ссылаясь на классиков (и противопоставляя, очевидно, их пишущему эти строки), говорите что-то о сюжете и героях, то отвечу вам без утайки — в предлагаемых записках не много, но два героя все же есть — сам автор и тот, другой, о котором говорится в последних строках «Севастополя в мае» — «Герой же моей повести, которого люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда...»
— Простите, но это более чем нескромно. Дело даже не в параллели, а в том, что рассказывать правду о войне несколько сложнее, чем о гавайских пляжах и австралийских верандах. А то, что вы где-то между ними, ухватившись за каких-то французских альпинистов, покритикуете слегка и издалека (из Парижа!) некую осточертевшую вам и опять же далекую от вас сейчас систему — стоит ли так уж этим хвастаться? Вы ж сами говорите о Распутине, Чуковской, Войновиче — им есть, что терять. А вы чем рискуете?
— Ничем! (Удар в самую точку. И все же, вытирая кровь, шпаги не бросаю.) Ничем! А может, именно этого больше всего мне и не хватает. Больше, чем оставленных дома друзей... Поговорим же об этом. Поставим же другие точки над другими i.
Риск... Опасность... Перестанут печатать. Выгонят из Союза, из партии. Месяцами будут таскать по партследователям, парткомиссиям. Не исключена и психушка, тюрьма.
Кроме последних двух возможностей, испытал все. Наказан эмиграцией.
А может, вознагражден?
Вот тут и подсовываю свой «Карфаген»... Объездил, облетел пол земного шара. Повидал чужие края, моря, людей, коал. Испробовал все виды колбас, осетрин, акульих плавников, саке и водок — даже непальскую «Ruslan Vodka» отведал, с двуглавым орлом на этикетке. Живу в Париже. В любую минуту могу застыть перед «Джокондой» или роденовским «Мыслителем». Купить, кроме «Правды», «Плэй-бой» с голыми девочками (мой друг отказался взять с собой в Москву подаренную ему мною, богато иллюстрированную «Интимную жизнь животных»...), сходить на идущую уже седьмой год на Шанз-Элизэ полупорнографическую «Эманюэль» или на «Печки-лавочки» (последний, четвертый или пятый раз смотрел в кинозале ООН, в Женеве), наконец, могу тут же, сейчас же, в этих записках, раскритиковать французского президента — уму непостижимо (советскому, во всяком случае), какое количество карикатур появляется ежедневно во всех французских газетах.
Да, вознагражден! И наградой этой пользуюсь. Как только могу. Но нечто, наградив меня, у меня отняли. Весьма существенное для человека пишущего. Лишив гражданства (с опозданием, правда, на пять лет), лишили права на риск — назовем это так. Чтоб писать и печататься, мне не нужна столь старательная выштудированная мною нелегкая школа литературной эквилибристики. Не надо больше быть жонглером, фокусником, чревовещателем (ну, не из чрева, между строк), канатоходцем (случается вместо каната и лезвие ножа), не надо хитрить, говорить полунамеками, вставлять ненавистное «порой» и «иной раз» («встречаются отдельные случаи злоупотребления алкоголем...»), обманывать ЛИТ, балансируя между ним, редактором и самим собой. Ничего этого теперь мне не надо. Все выученное, отработанное в этой школе циркового искусства здесь, где я сейчас живу, котируется куда меньше, чем диплом московского мединститута, если ты врач... В результате мышцы без тренировки становятся вялыми, рефлексы замедленными, заторможенными. Риска никакого. Упадешь, так на матрац, кости целы. Высшая мера наказания — «К большому нашему огорчению, вынуждены вернуть вам рукопись. Примите уверения в глубочайшем нашем уважении...»
Схватки на поле брани, вот чего не хватает. Мне не хватает просмотрового зала в здании Главного Политуправления Советской Армии на улице Фрунзе...
Зал маленький, генералов много. Все в орденах и планках. А один даже с маршальской звездой — начальник Политуправления Голиков. Все мрачны и надуты. Принимается картина «Солдаты». После первой части маршал демонстративно покидает зал. Полтора часа гробовой тишины. Реакции никакой, посапывание. Зажигается свет. Перекур. Мы с Александром Гавриловичем Ивановым — режиссером фильма — в полной изоляции.
Кончается перекур, начинается погром. Один за другим генералы подымаются на трибуну... Картина вредная, искажающая действительность, оскорбительная для славной нашей, героической Красной Армии. Вариаций в выступлениях никаких. Хор единодушен.
Один из генералов, весь в «Суворовых» и «Кутузовых», переходит грань.
— Фильм более чем лживый. Где вы видели таких оборванцев, босых, полуголых, какими изображает автор нашу армию, пусть даже в дни вынужденного отступления? Шайка бандитов. Где вы видели в нашей армии пьянство? Лакают вино прямо из бачка. Что это за судилище над начальником штаба, который требовал выполнения приказа? Картина клеветническая от начала до конца. Более того — контрреволюционная!
Последующее оказалось неожиданным для меня самого. Я взял слово.
— Думаю, товарищи генералы, что полуголых и босых бойцов вы не видели по той простой причине, что на «Виллисах» своих вы были уже в глубоком тылу... И вина из бачков не хлестали, потому что предпочитали ему трофейный коньяк «три звездочки».
Краткое выступление свое я закончил словами, которыми безмерно горжусь:
— Вас, товарищ генерал, позволившего себе обвинить автора и режиссера, кстати, активного участника Гражданской войны, в создании контрреволюционного фильма, прошу принести сейчас же, здесь же формальное извинение! — и после паузы. — Товарищи генералы, вы свободны. Можно закурить...
Лучших минут в моей жизни не было. Генерал извинился, пробормотал что-то невнятное.
(Картина вышла на экраны. Потом была снята Жуковым. Потом опять появилась. Говорят, и сейчас иногда показывают.)
Еще один эпизод. Я уже писал о нем. Как тов. Подгорный перебивал меня на одном из идеологических совещаний, где от меня требовали покаяния, и что-то не получилось. Он недоумевал, откуда я знаю, что Михайловский собор был снесен и, откровенно говоря, поставил меня в тупик. Другой руководитель — секретарь ЦК тов. Скаба — тоже перебил меня — весьма распространенный прием, чтоб сбить с толку.
— Вот вы все говорите, тов. Некрасов, о новом реализме и забываете, что вы писатель советский и реализм у нас социалистический.
Я вынужден был поправить тов. Скабу.
— Ни о каком новом реализме я не говорил, такого просто не существует. А говорил я о неореализме, определенном течении в итальянской кинематографии, оказавшем весьма существенное влияние и на нашу... И второе — прошу меня впредь не перебивать. Когда вы выступали, я вас не перебивал.
В кулуарах мне потом жали руки, озираясь по сторонам. Такое поведение на трибуне в нашей стране приравнивается к безумию. Безумству храбрых поем мы песню!
Схваток ему не хватает. Ну и ну... дожил до седых волос, в любую минуту, сев на метро и пересев на «Конкорд», может оказаться в Лувре. Вот и ходи по тихим залам, послав к черту всех этих мудаков генералов, выживших из ума Подгорных и Скаб (где они сейчас?), пиши о прекрасном, о вечном...
Ха-ха! А вот и напишу!
Один очень уважаемый мною писатель упрекнул меня в том, что записки мои мало чем отличаются от Бедекера. Упрекнул, чудак, не зная, что сокровеннейшая мечта моя именно Бедекер, написать «Бедекер по Парижу». По МОЕМУ Парижу. И напишу — обещаю! И прочитавший его не пожалеет — кое-что там будет, чего не знает иной даже истый парижанин.
Вторая мечта — детектив. Ориент-экспресс с королями-инкогнито, прекрасными авантюристками и шпионами, увы, уже не существует. Но в сентябре обещают пустить в Лион новый сверхэкспресс. Может же там произойти таинственное убийство... Но это уже после Бедекера, после Парижа.
А схваток все же не хватает, поверьте мне. Очень не хватает. И хождения по лезвию ножа тоже. Именно там, балансируя на этом лезвии, в полной мере ощущаешь ты значение каждого слова. Оно на вес золота. И случается, звучит набатом.