Произведения Виктора Некрасова
Лежа на диване
Рассказ написан 17 июня 1986 года. Опубликован в подборке произведений Виктора Некрасова под общим заголовком "Кое-что из жизни..." в журнале "Континент" № 81, 1994.
Публикация Виктора Кондырева и Григория Анисимова
"Континент" № 81, 1994 в формате pdf
* * *
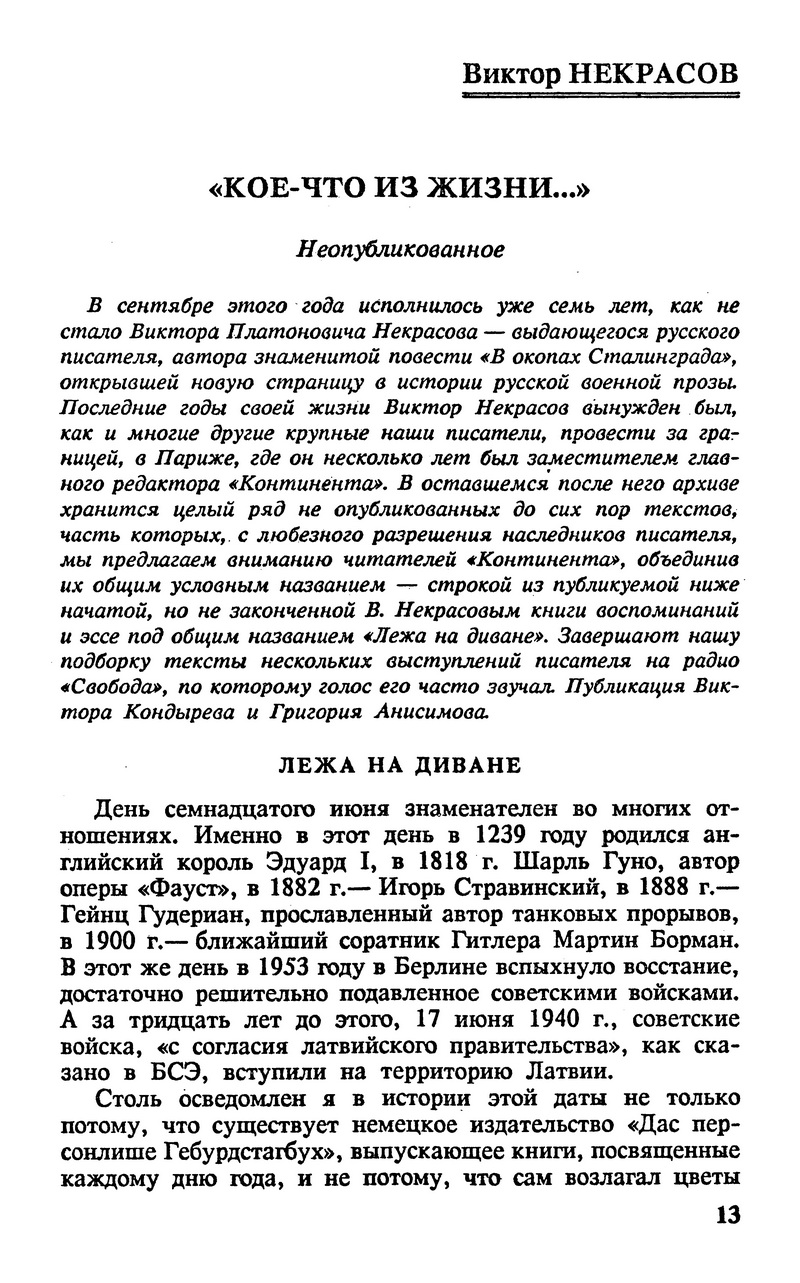
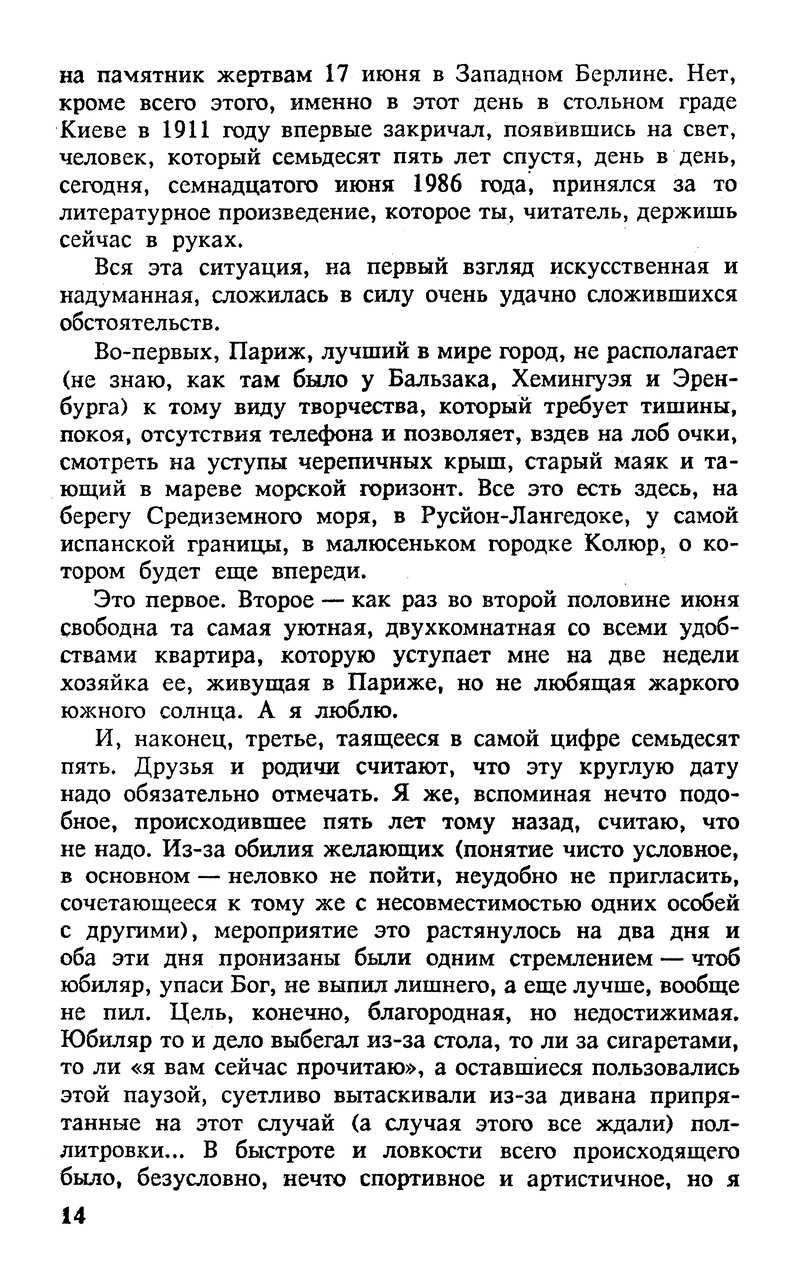
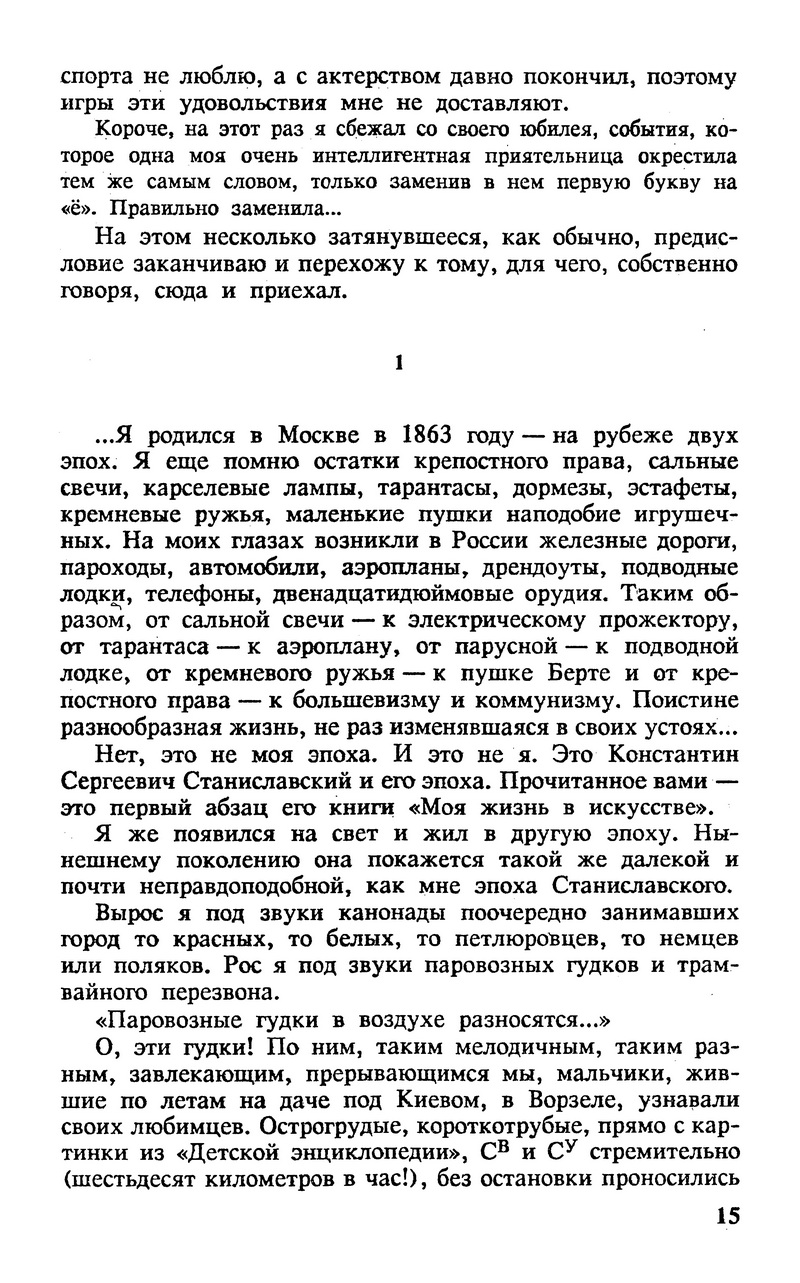
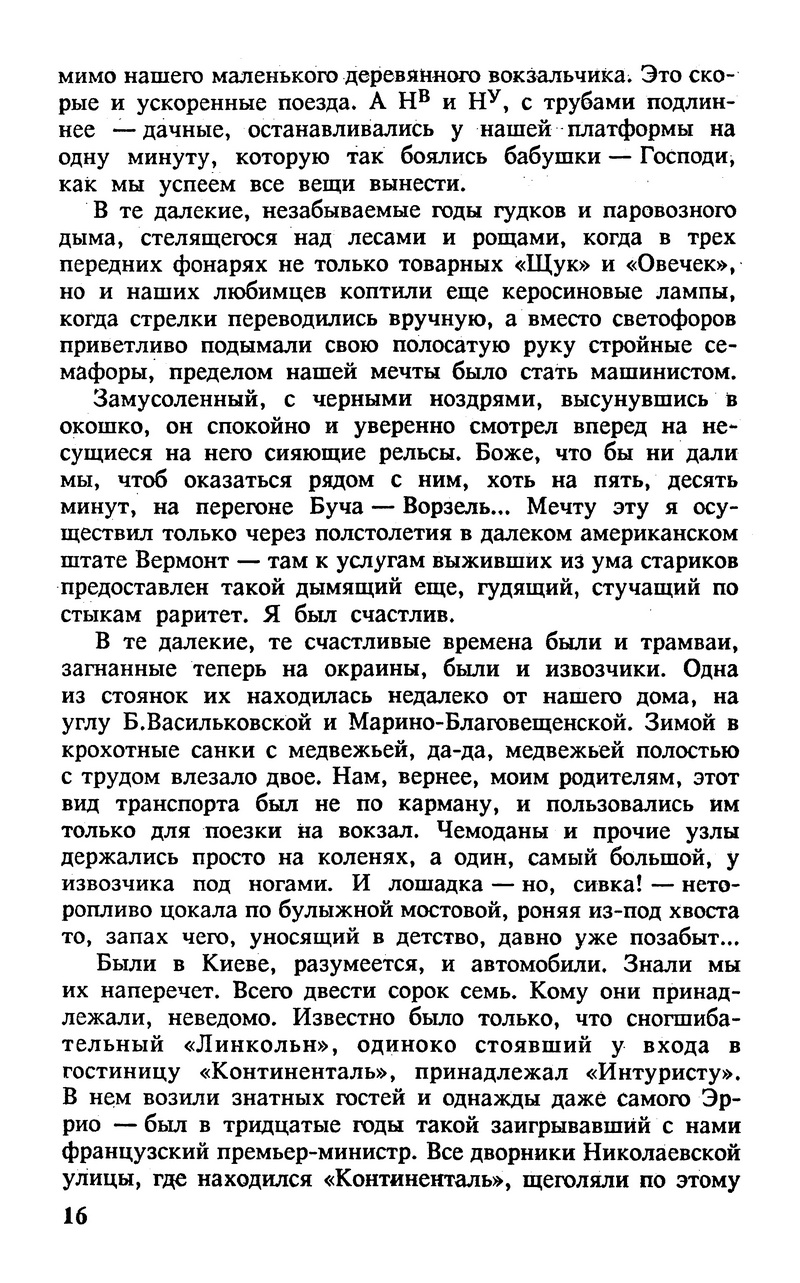
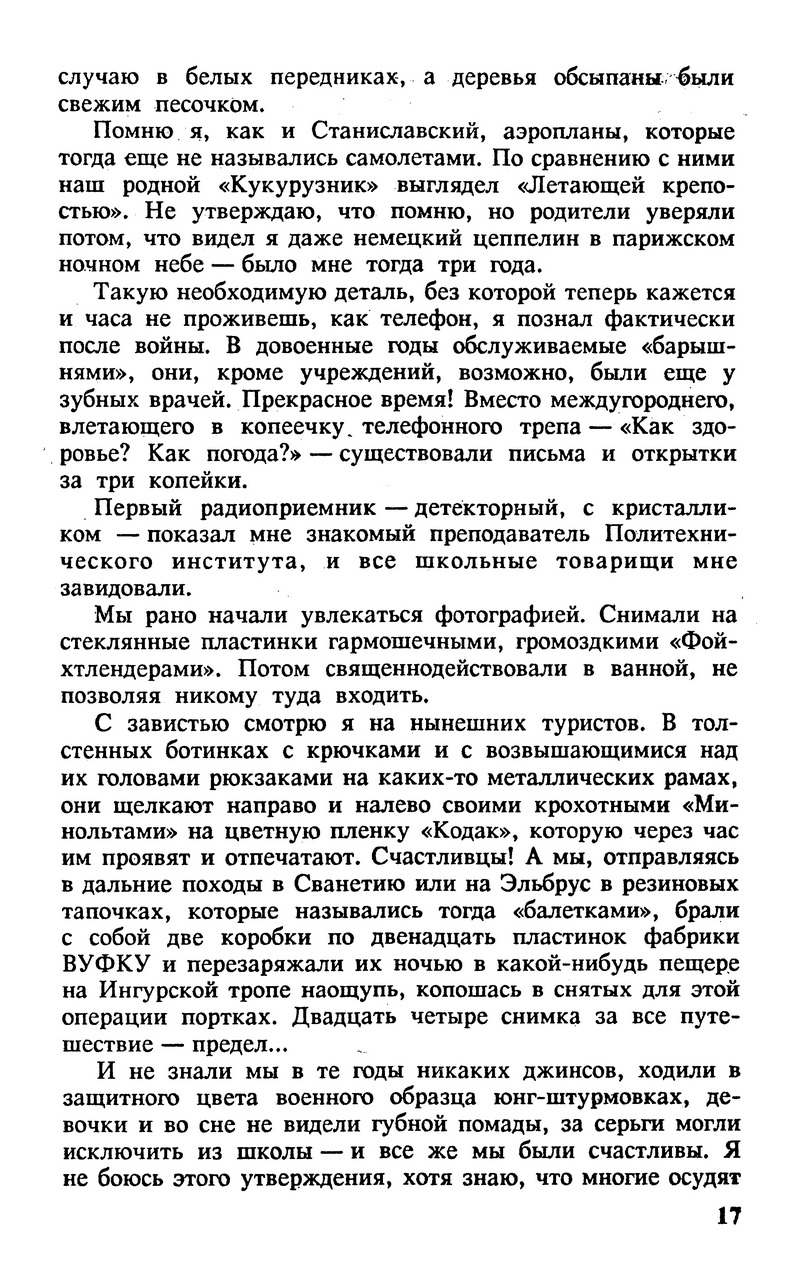
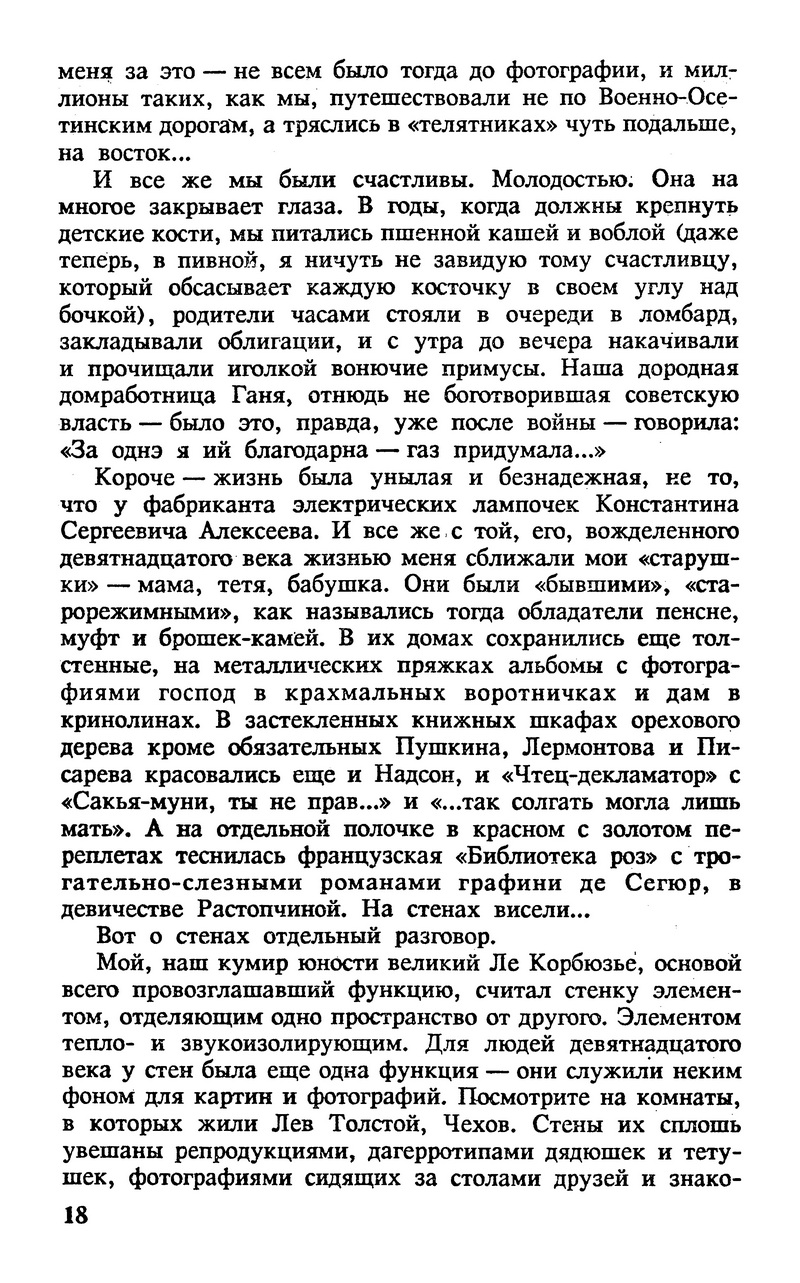
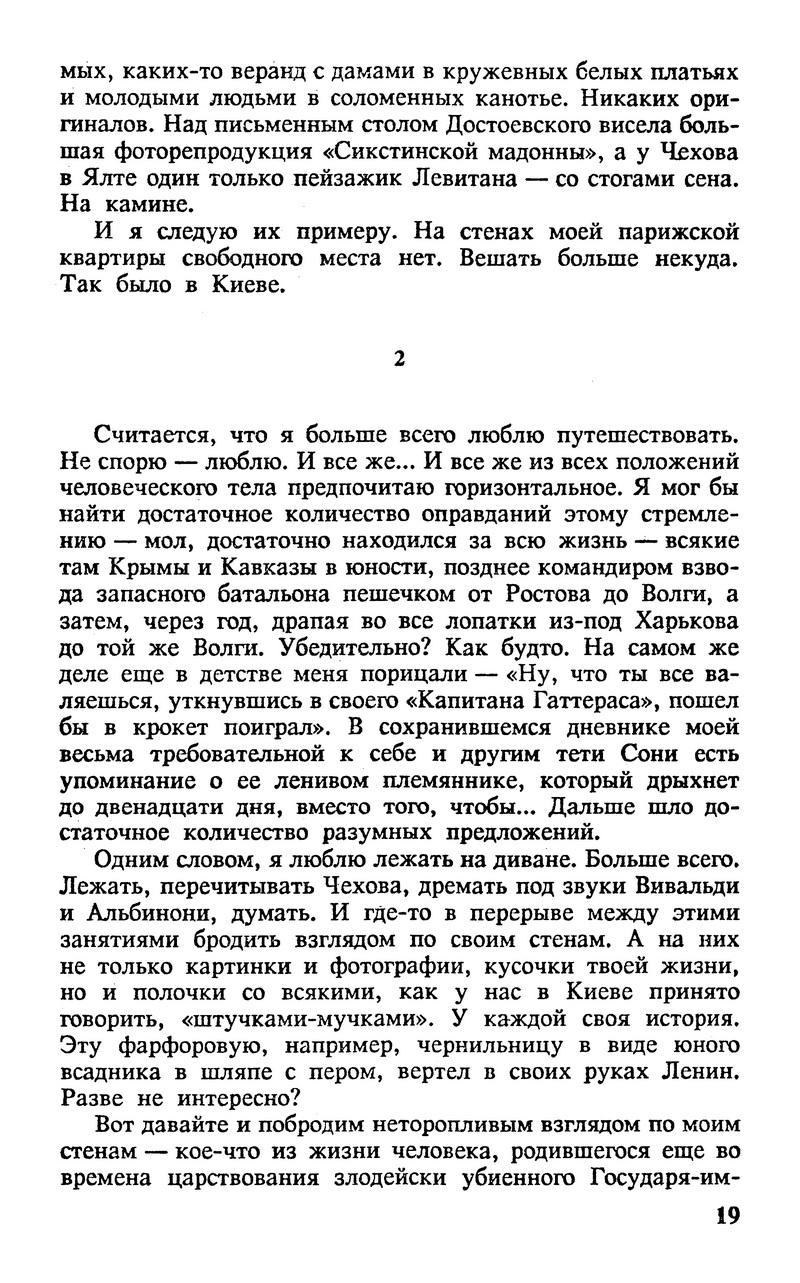
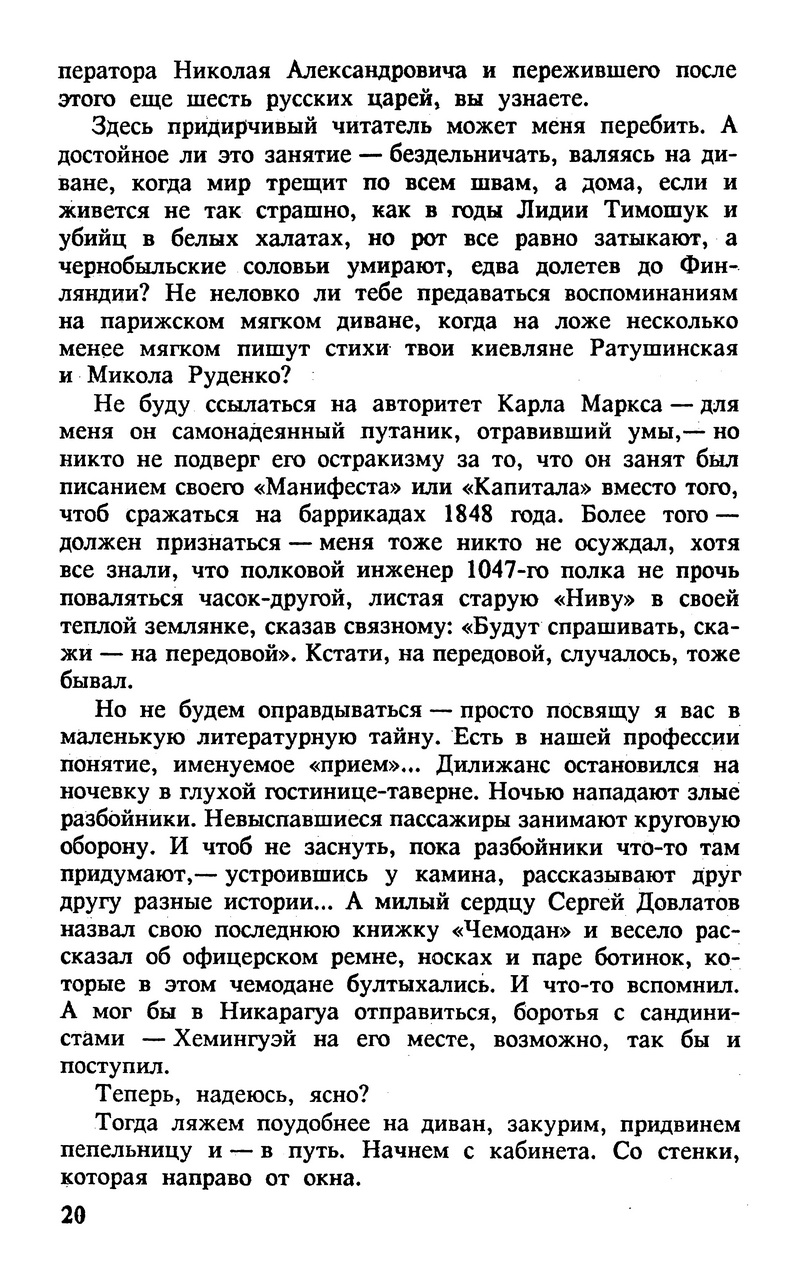
* * *
День семнадцатого июня знаменателен во многих отношениях. Именно в этот день в 1239 году родился английский король Эдуард I, в 1818 г. Шарль Гуно, автор оперы «Фауст», в 1882 г. — Игорь Стравинский, в 1888 г. — Гейнц Гудериан, прославленный автор танковых прорывов, в 1900 г. — ближайший соратник Гитлера Мартин Борман. В этот же день в 1953 году в Берлине вспыхнуло восстание, достаточно решительно подавленное советскими войсками. А за тридцать лет до этого, 17 июня 1940 г., советские войска, «с согласия латвийского правительства», как сказано в БСЭ, вступили на территорию Латвии.
Столь осведомлен я в истории этой даты не только потому, что существует немецкое издательство «Дас персонлише Гебурдстагбух», выпускающее книги, посвященные каждому дню года, и не потому, что сам возлагал цветы на памятник жертвам 17 июня в Западном Берлине. Нет, кроме всего этого, именно в этот день в стольном граде Киеве в 1911 году впервые закричал, появившись на свет, человек, который семьдесят пять лет спустя, день в день, сегодня, семнадцатого июня 1986 года, принялся за то литературное произведение, которое ты, читатель, держишь сейчас в руках.
Вся эта ситуация, на первый взгляд искусственная и надуманьая, сложилась в силу очень удачно сложившихся обстоятельств.
Во-первых, Париж, лучший в мире город, не располагает (не знаю, как там было у Бальзака, Хемингуэя и Эренбурга) к тому виду творчества, который требует тишины, покоя, отсутствия телефона и позволяет, вздев на лоб очки, смотреть на уступы черепичных крыш, старый маяк и тающий в мареве морской горизонт. Все это есть здесь, на берегу Средиземного моря, в Русион-Лангедоке, у самой испанской границы, в малюсеньком городке Колюр, о котором будет еще впереди.
Это первое. Второе — как раз во второй половине июня свободна та самая уютная, двухкомнатная со всеми удобствами квартира, которую уступает мне на две недели хозяйка ее, живущая в Париже, но не любящая жаркого южного солнца. А я люблю.
И, наконец, третье, таящееся в самой цифре семьдесят пять. Друзья и родичи считают, что эту круглую дату надо обязательно отмечать. Я же, вспоминая нечто подобное, происходившее пять лет тому назад, считаю, что не надо. Из-за обилия желающих (понятие чисто условное, в основном — неловко не пойти, неудобно не пригласить, сочетающееся к тому же с несовместимостью одних особей с другими), мероприятие это растянулось на два дня и оба эти дня пронизаны были одним стремлением — чтоб юбиляр, упаси Бог, не выпил лишнего, а еще лучше, вообще не пил. Цель, конечно, благородная, но недостижимая. Юбиляр то и дело выбегал из-за стола, то ли за сигаретами, то ли «я вам сейчас прочитаю», а оставшиеся пользовались этой паузой, суетливо вытаскивали из-за дивана припрятанные на этот случай (а случая этого все ждали) поллитровки... В быстроте и ловкости всего происходящего было, безусловно, нечто спортивное и артистичное, но я спорта не люблю, а с актерством давно покончил, поэтому игры эти удовольствия мне не доставляют.
Короче, на этот раз я сбежал со своего юбилея, события, которое одна моя очень интеллигентная приятельница окрестила тем же самым словом, только заменив в нем первую букву на «ё». Правильно заменила...
На этом несколько затянувшееся, как обычно, предисловие заканчиваю и перехожу к тому, для чего, собственно говоря, сюда и приехал.
1
...Я родился в Москве в 1863 году — на рубеже двух эпох. Я еше помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лгшы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникли в России железные дороги, пароходы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом, от сальной свечи — к электрическому прожектору, от тарантаса — к аэроплану, от парусной — к подводной лодке, от кремневого ружья — к пушке Берте и от крепостного права — к большевизму и коммунизму. Поистине разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях..,
Нет, это не моя эпоха. И это не я. Это Константин Сергеевич Станиславский и его эпоха. Прочитанное вами — это первый абзац его книги «Моя жизнь в искусстве».
Я же появился на свет и жил в другую эпоху. Нынешнему поколению она покажется такой же далекой и почти неправдоподобной, как мне эпоха Станиславского.
Вырос я под звуки канонады поочередно занимавших город то красных, то белых, то петлюровцев, то немцев или поляков. Рос я под звуки паровозных гудков и трамвайного перезвона.
«Паровозные гудки в воздухе разносятся...»
О, эти гудки! По ним, таким мелодичным, таким разным, завлекающим, прерывающимся мы, мальчики, жившие по летам на даче под Киевом, в Ворзеле, узнавали своих любимцев. Острогрудые, короткотрубые, прямо с картинки из «Детской энциклопедии», СB и СB стремительно (шестьдесят километров в час!), без остановки проносились мимо нашего маленького деревянного вокзальчика. Это скорые и ускоренные поезда. А НB и НУ, с трубами подлиннее — дачные, останавливались у нашей платформы на одну минуту, которую так боялись бабушки — Господи, как мы успеем все вещи вынести.
В те далекие, незабываемые годы гудков и паровозного дыма, стелящегося над лесами и рощами, когда в трех передних фонарях не только товарных «Щук» и «Овечек», но и наших любимцев коптили еще керосиновые лампы, когда стрелки переводились вручную, а вместо светофоров приветливо подымали свою полосатую руку стройные семафоры, пределом нашей мечты было стать машинистом.
Замусоленный, с черными ноздрями, высунувшись в окошко, он спокойно и уверенно смотрел вперед на несущиеся на него сияющие рельсы. Боже, что бы ни дали мы, чтоб оказаться рядом с ним, хоть на пять, десять минут, на перегоне Буча — Ворзель... Мечту эту я осуществил только через полстолетия в далеком американском штате Вермонт — там к услугам выживших из ума стариков предоставлен такой дымящий еще, гудящий, стучащий по стыкам раритет. Я был счастлив.
В те далекие, те счастливые времена были и трамваи, загнанные теперь на окраины, были и извозчики. Одна из стоянок их находилась недалеко от нашего дома, на углу Б. Васильковской и Марино-Благовещенской. Зимой в крохотные санки с медвежьей, да-да, медвежьей полостью с трудом влезало двое. Нам, вернее, моим родителям, этот вид транспорта был не по карману, и пользовались им только для поездки на вокзал. Чемоданы и прочие узлы держались просто на коленях, а один, самый большой, у извозчика под ногами. И лошадка — но, сивка! — неторопливо цокала по булыжной мостовой, роняя из-под хвоста то, запах чего, уносящий в детство, давно уже позабыт...
Были в Киеве, разумеется, и автомобили. Знали мы их наперечет. Всего двести сорок семь. Кому они принадлежали, неведомо. Известно было только, что сногсшибательный «Линкольн», одиноко стоявший у входа в гостиницу «Континенталь», принадлежал «Интуристу». В нем возили знатных гостей и однажды даже самого Эррио — был в тридцатые годы такой заигрывавший с нами французский премьер-министр. Все дворники Николаевской улицы, где находился «Континенталь», щеголяли по этому случаю в белых передниках, а деревья обсыпаны были свежим песочком.
Помню я, как и Станиславский, аэропланы, которые тогда еще не назывались самолетами. По сравнению с ними наш родной «Кукурузник» выглядел «Летающей крепостью». Не утверждаю, что помню, но родители уверяли потом, что видел я даже немецкий цеппелин в парижском ночном небе — было мне тогда три года.
Такую необходимую деталь, без которой теперь, кажется, и часа не проживешь, как телефон, я познал фактически после войны. В довоенные годы обслуживаемые «барышнями», они, кроме учреждений, возможно, были еще у зубных врачей. Прекрасное время! Вместо междугороднего, влетающего в копеечку телефонного трепа — «Как здоровье? Как погода?» — существовали письма и открытки за три копейки.
Первый радиоприемник — детекторный, с кристалликом — показал мне знакомый преподаватель Политехнического института, и все школьные товарищи мне завидовали.
Мы рано начали увлекаться фотографией. Снимали на стеклянные пластинки гармо-шечными, громоздкими «Фойхтлендерами». Потом священнодействовали в ванной, не позволяя никому туда входить.
С завистью смотрю я на нынешних туристов. В толстенных ботинках с крючками и с возвышающимися над их головами рюкзаками на каких-то металлических рамах, они щелкают направо и налево своими крохотными «Минольтами» на цветную пленку «Кодак», которую через час им проявят и отпечатают. Счастливцы! А мы, отправляясь в дальние походы в Сванетию или на Эльбрус в резиновых тапочках, которые назывались тогда «балетками», брали с собой две коробки по двенадцать пластинок фабрики ВУФКУ и перезаряжали их ночью в какой-нибудь пещере на Ингурской тропе на ощупь, копошась в снятых для этой операции портках. Двадцать четыре снимка за все путешествие — предел...
И не знали мы в те годы никаких джинсов, ходили в защитного цвета военного образца юнг-штурмовках, девочки и во сне не видели губной помады, за серьги могли исключить из школы — и все же мы были счастливы. Я не боюсь этого утверждения, хотя знаю, что многие осудят меня за это — не всем было тогда до фотографии, и миллионы таких, как мы, путешествовали не по Военно-Осетинским дорогам, а тряслись в «телятниках» чуть подальше, на восток...
И все же мы были счастливы. Молодостью. Она на многое закрывает глаза. В годы, когда должны крепнуть детские кости, мы питались пшенной кашей и воблой (даже теперь, в пивной, я ничуть не завидую тому счастливцу, который обсасывает каждую косточку в своем углу над бочкой), родители часами стояли в очереди в ломбард, закладывали облигации, и с утра до вечера накачивали и прочищали иголкой вонючие примусы. Наша дородная домработница Ганя, отнюдь не боготворившая советскую власть — было это, правда, уже после войны — говорила: «За однэ я ий благодарна — газ придумала...»
Короче — жизнь была унылая и безнадежная, не то что у фабриканта электрических лампочек Константина Сергеевича Алексеева. И все же с той, его, вожделенного девятнадцатого века жизнью меня сближали мои «старушки» — мама, тетя, бабушка. Они были «бывшими», «старорежимными», как назывались тогда обладатели пенсне, муфт и брошек-камей. В их домах сохранились еще толстенные, на металлических пряжках альбомы с фотографиями господ в крахмальных воротничках и дам в кринолинах. В застекленных книжных шкафах орехового дерева кроме обязательных Пушкина, Лермонтова и Писарева красовались еще и Надсон, и «Чтец-декламатор» с «Шакья-Муни, ты не прав...» и «...так солгать могла лишь мать». А на отдельной полочке в красном с золотом переплетах теснилась французская «Библиотека роз» с трогательно-слезными романами графини де Сегюр, в девичестве Растопчиной. На стенах висели...
Вот о стенах отдельный разговор.
Мой, наш кумир юности великий Ле Корбюзье, основой всего провозглашавший функцию, считал стенку элементом, отделяющим одно пространство от другого. Элементом тепло— и звукоизолирующим. Для людей девятнадцатого века у стен была еще одна функция — они служили неким фоном для картин и фотографий. Посмотрите на комнаты, в которых жили Лев Толстой, Чехов. Стены их сплошь увешаны репродукциями, дагерротипами дядюшек и тетушек, фотографиями сидящих за столами друзей и знакомых, каких-то веранд с дамами в кружевных белых платьях и молодыми людьми в соломенных канотье. Никаких оригиналов. Над письменным столом Достоевского висела большая фоторепродукция «Сикстинской Мадонны», а у Чехова в Ялте один только пейзажик Левитана — со стогами сена. На камине.
И я следую их примеру. На стенах моей парижской квартиры свободного места нет. Вешать больше некуда. Так было в Киеве.
2
Считается, что я больше всего люблю путешествовать. Не спорю — люблю. И все же... И все же из всех положений человеческого тела предпочитаю горизонтальное. Я мог бы найти достаточное количество оправданий этому стремлению — мол, достаточно находился за всю жизнь — всякие там Крымы и Кавказы в юности, позднее командиром взвода запасного батальона пешочком от Ростова до Волги, а затем, через год, драпая во все лопатки из-под Харькова до той же Волги. Убедительно? Как будто. На самом же деле еще в детстве меня порицали — «Ну, что ты все валяешься, уткнувшись в своего "Капитана Гаттераса", пошел бы в крокет поиграл». В сохранившемся дневнике моей весьма требовательной к себе и другим тети Сони есть упоминание о ее ленивом племяннике, который дрыхнет до двенадцати дня, вместо того, чтобы... Дальше шло достаточное количество разумных предложений.
Одним словом, я люблю лежать на диване. Больше всего. Лежать, перечитывать Чехова, дремать под звуки Вивальди и Альбинони, думать. И где-то в перерыве между этими занятиями бродить взглядом по своим стенам. А на них не только картинки и фотографии, кусочки твоей жизни, но и полочки со всякими, как у нас в Киеве принято говорить, «штучками-мучками». У каждой своя история. Эту фарфоровую, например, чернильницу в виде юного всадника в шляпе с пером, вертел в своих руках Ленин. Разве не интересно?
Вот давайте и побродим неторопливым взглядом по моим стенам — кое-что из жизни человека, родившегося еще во времена царствования злодейски убиенного Государя-императора Николая Александровича и пережившего после этого еще шесть русских царей, вы узнаете.
Здесь придирчивый читатель может меня перебить. А достойное ли это занятие — бездельничать, валяясь на диване, когда мир трещит по всем швам, а дома, если и живется не так страшно, как в годы Лидии Тимошук и убийц в белых халатах, но рот все равно затыкают, а чернобыльские соловьи умирают, едва долетев до Финляндии? Не неловко ли тебе предаваться воспоминаниям на парижском мягком диване, когда на ложе несколько менее мягком пишут стихи твои киевляне Ратушинская и Микола Руденко?
Не буду ссылаться на авторитет Карла Маркса — для меня он самонадеянный путаник, отравивший умы, — но никто не подверг его остракизму за то, что он занят был писанием своего «Манифеста» или «Капитала» вместо того, чтоб сражаться на баррикадах 1848 года. Более того — должен признаться — меня тоже никто не осуждал, хотя все знали, что полковой инженер 1047-го полка не прочь поваляться часок-другой, листая старую «Ниву» в своей теплой землянке, сказав связному: «Будут спрашивать, скажи — на передовой». Кстати, на передовой, случалось, тоже бывал.
Но не будем оправдываться — просто посвящу я вас в маленькую литературную тайну. Есть в нашей профессии понятие, именуемое «прием»... Дилижанс остановился на ночевку в глухой гостинице-таверне. Ночью нападают злые разбойники. Невыспавшиеся пассажиры занимают круговую оборону. И чтоб не заснуть, пока разбойники что-то там придумают, — устроившись у камина, рассказывают друг другу разные истории... А милый сердцу Сергей Довлатов назвал свою последнюю книжку «Чемодан» и весело рассказал об офицерском ремне, носках и паре ботинок, которые в этом чемодане бултыхались. И что-то вспомнил. А мог бы в Никарагуа отправиться, бороться с сандинистами — Хемингуэй на его месте, возможно, так бы и поступил.
Теперь, надеюсь, ясно?
Тогда ляжем поудобнее на диван, закурим, придвинем пепельницу и — в путь. Начнем с кабинета. Со стенки, которая направо от окна.